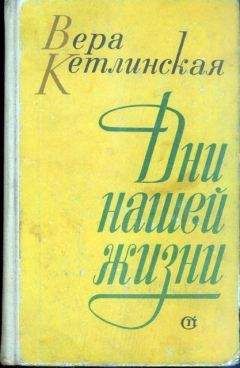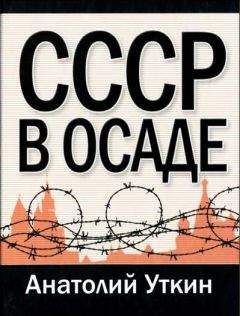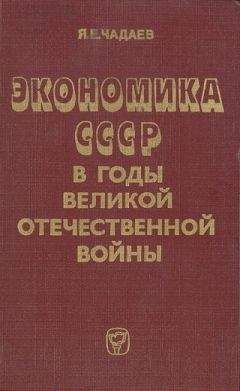Вера Кетлинская - В осаде
Солодухин по-прежнему жил и питался в стационаре. Но так как теперь он больше всего думал о том, чтобы «утереть нос Курбатову», а кроме того, вообще умел ценить и беречь порученных ему людей, он почти каждый раз приносил кому-нибудь из своих помощников то кусок лепёшки, то стакан соевого молока, то порцию шпига. Делал он это тайком от Любы и от своей жены, воровато озирался и краснел, как мальчишка, если вдруг появлялась его старуха. Старуха неизменно ругала его на весь цех, не стыдясь людей, а потом утирала слёзы радости и рассказывала счастливым голосом:
— А ведь бывало съест и своё, и моё, да ещё отпирается! Я ему и без того своё подсовывала, мне только обидно было — зачем сам берёт… А теперь, глядите-ко — что твой генерал! Шумный стал, самостоятельный..
Григорий Кораблёв осматривал, проверял, ремонтировал моторы во главе бригады мотористов. Тихий, в шлеме танкиста, до половины прикрывавшем глубокий шрам на лбу, Кораблёв явно пересиливал недомогание и порою, когда ему казалось, что никто не видит, утомлённо прикрывал помутневшие глаза. Но затем, особенно в тех случаях, когда мотор оказывался неисправен и установить причину неисправности не удавалось, он оживлялся, подолгу ползал вокруг мотора, щупая, выстукивая, разглядывая, и при этом что-то насвистывал сквозь зубы Когда ему удавалось установить причину неисправности, он становился азартно весел, бойко распоряжался своими помощниками, умело распределял работу и всегда брал на себя самую трудную и ответственную часть ее. В эти часы в бригаде мотористов охотно шутили и смеялись, работа шла споро, время летело незаметно.
Среди рабочих прижилась поговорка:
— Помер бы, да помирать некогда.
А когда нужно было выполнить что-нибудь очень трудное или просто продолжить работу в то время, как на территории завода рвутся немецкие снаряды, неизменно звучало обращение:
— А ну, ленинградцы!
Смолин присматривался к ним с уважением и любопытством. Да, это были героические ленинградские труженики, слава о них уже шла по всему миру, и слава эта была не только заслужена ими, она была ещё недостаточна, потому что, не видя и не зная всей меры страданий и тягот блокады, нельзя было представить себе и всей меры героизма и выносливости. Голод и страдания развили у многих раздражительность, мелочность, подозрительность. Алексей никого не идеализировал, но он видел, как коллектив отсекал, подавлял всё мелкое, как хорошели люди под воздействием дружного и целеустремлённого труда. Перед ними была ясная и простая цель — увидеть обновленными, готовыми к бою с фашистами вот эти двенадцать опалённых, изуродованных машин. Ради этого они не жалели себя и соревновались между собою, стараясь сделать больше, лучше, быстрее. Ради этого они побеждали слабость тела, муки голода и холода, спали урывками, где придётся. И оттого, что это были живые, обыкновенные люди, со всеми присущими человеку слабостями и недостатками, ещё ярче и победоноснее выступала в них новая и необыкновенная сущность, созданная всем строем советской жизни, — сознательная самоотверженность, искреннее и требовательное товарищество, чувство личной ответственности за порученное дело, за свой завод, за город, за всю страну.
— По фронтовикам равняемся, — говорили рабочие танкистам.
— Это нам у вас учиться надо, — сказал Алексей Смолин. — Получишь машину, созданную таким трудом, — на ней чорт знает как воевать нужно, чтобы труд ваш оправдать.
Девушка, работавшая на очистке его танка, лукаво улыбнулась.
— Чорт знает как — может быть, и хорошо, и плохо, — медленно сказала она. — Вы немцев от города прогоните, большего мы не требуем.
— А Берлин вам не потребуется? — пошутил Алексей.
— Для Берлина мы вам новый танк дадим, — тотчас нашлась девушка.
— Не обманите, я за ним приду.
Алексею нравилась эта девушка. В её бледном лице с красивыми глазами сквозь усталость и печаль пробивалось какое-то исступлённое вдохновение. Кроме производственной работы, девушка выполняла в цехе ещё и другие обязанности — то ли по собственному побуждению, то ли по чьему-то заданию. Она следила за тем, чтобы в цехе была вода для мытья после работы, ведала очередью в душевую при стационаре, где в вечерние часы могли мыться все заводские рабочие. Алексей слышал иногда, как Лиза уговаривала товарищей пойти в душевую или побриться, как она стыдила тех, кто от усталости или по распущенности не следил за собою.
Алексею нравилась её молчаливая и безропотная старательность в работе, но ещё больше понравилась страстность, с какою она однажды заступилась за свои права. Станки в цехе Солодухина были подготовлены к пуску, и Солодухин пришёл забрать несколько своих рабочих, временно работавших у Курбатова. Лиза прислушивалась — и вдруг выпрямилась, соскочила с танка и пошла прямо на Солодухина. Ноздри её раздувались, щеки горели.
— Второй токарный станок мой, и стану к нему я, — услышал Алексей её звенящий голос.
Солодухин стал спорить, он, видимо, предпочитал поставить к станку мужчину, а может быть, подобрал более опытного и умелого рабочего.
— Это несправедливо, — звонко сказала Лиза. — Спорить во время работы я не буду, но я вам говорю — это несправедливо. И я вас предупреждаю — я своего добьюсь.
Она вернулась, гордо вскинув голову с развевающимися локонами, и молча прыгнула внутрь танка.
— Что, там работа легче? — спросил Алексей, желая поговорить с нею.
— Нет, труднее, — зло ответила Лиза и отвернулась.
Вечером Кораблёв начал разбирать мотор, и Алексей допоздна помогал ему. Лиза тоже долго копошилась в танке, потом ушла. Когда Алексей освободился, уже не имело смысла тащиться по морозу в общежитие, где устроили экипажи прибывших танков. Алексей в поисках-тёплого угла забрёл в цеховую конторку, где обычно грелся кипяток. В конторке было темно, только красноватые отблески догорающего в печурке огня падали на пол из приоткрытой дверцы.
Алексей присел возле печки, поддел щепкой уголёк и закурил. Кто-то зашевелился в темноте на скамье и вздохнул. Алексей быстро вскинул голову, вглядываясь в темноту.
— Это я, Лиза, — сказал девичий голос. — Работаю на вашем танке.
Он сильно затянулся, пытаясь в скудном свете вспыхнувшей папиросы увидеть её лицо.
— На заводе и спите?
— А где же?
— У вас никого нет в городе?
— Есть, да ходить далеко. Я в центре живу.
— Д-да… — протянул он. — Мне вот тоже надо бы в центр смотаться до утра, сестру навестить. Да итти неохота. Тьма, мороз. А главное — глядеть страшно. Страшнее, чем на фронте, вы тут живете.
Лиза знала фамилию танкиста и давно догадывалась, что это двоюродный брат Марии Смолиной, но ей не хотелось завязывать знакомство. Ни к чему.
— Какая жизнь! — вяло откликнулась она.
— Это скоро кончится, — виновато сказал он. — Вот увидите. Сейчас на Ладоге с каждым днем грузооборот увеличивается…
— Не утешайте, — оборвала Лиза. — У меня там сестра. Знаю.
— Починимся, — смущённо сказал он, — опять воевать пойдём. И ваше требование выполним. Хотите я в вашу честь в первый бой пойду?
Она не ответила.
— Я всё хочу вас развеселить немного, — ещё смущённее пробормотал он. — Кончится это всё. Вы ещё молодая…
— Ну, и что? — со злостью спросила Лиза.
— Поправитесь. Отдохнете. Будете булку с маслом есть.
— Было бы хлеба вволю, — отмахнулась Лиза.
Он помедлил, прежде чем нашарить в кармане завтрашний хлебный паек. Потом вытащил легкий, плоский сверток, переломил хлеб пополам, половину сунул обратно, а половину переломил еще на две неровные части и больший кусок протянул Лизе.
— Кушайте.
Девушка не шевельнулась и не ответила.
— Ну, берите, — сказал он грубовато и наугад ткнул ломать хлеба туда, где должны быть её руки.
Рука высвободилась из-под пальто и приняла хлеб. Алексей слышал, как медленно жевала девушка, тяжело дыша.
— Вот и веселее на душе, — сказал он, улыбаясь в темноту, легкомысленно разом проглотил свою долю.
— Спасибо, — наконец, сказала она. — Вы теперь сами без хлеба остались.
— Ничего подобного, — возразил он и щедро вытащил оставшийся хлеб. — У меня, видите, с запасом. Тяните!
Он протянул хлеб, рассчитывая, что Лиза отломит половинку, но Лиза не поняла и взяла весь. Взяв, застыдилась:
— А у вас, честное слово, назавтра ещё есть?
— Говорю же я вам, вот какая! — рассердился он и отвернулся, стараясь не слышать, как она снова медленно, с наслаждением двигает челюстями. Теперь его мутила злость — расчувствовался, а завтра работай голодным. Идиот!
— Боже мой, — вдруг сказала Лиза, — боже мой!..
— Чего вы? — хмуро спросил он.
— До чего мы все дошли… — прошептала она. — Жалкие стали…