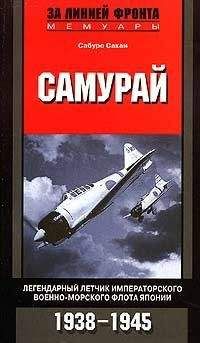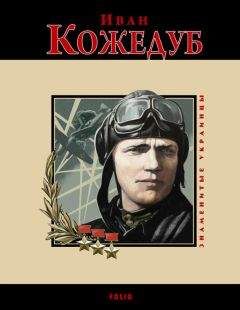Владимир Рудный - Гангутцы
— Нахимовцы! По кó-о-ням!..
Этот странный по своему словосочетанию возглас возник в памятном бою «морских охотников» с канонерскими лодками и миноносцем противника. В той лихой, чисто кавалерийской атаке Терещенко шел головным, и тогда-то матросы впервые услышали рожденную необычайной обстановкой звонкую команду: «По кó-о-ням, нахимовцы! Покажем врагу, какова наша морская кавалерия!»
Лишь только сигнальщик произнес эту фразу, все, кто не спал, выскочили на палубу. Терещенко это не удивило, — он любил свою маленькую корабельную семью.
Заметив среди матросов рулевого Андрея Паршина, Терещенко не на шутку рассердился:
— Почему на ногах? Марш спать! Всем, кто свободен от вахты, выспаться.
Все поняли, что снова предстоит выход в море.
* * *Самое трудное — выйти из бухты незамеченным. Слухачи на финских островах, фиксируя каждый выхлоп мотора, поднимали на ноги свою артиллерию, прожектористов и тут же оповещали дальние немецкие посты о выходе гангутцев в море. Прогревая моторы, мотористы любили дразнить и тревожить финнов, резко форсируя обороты. Но выходить катерники умели тихо.
Глубокой ночью на Руссарэ блеснули и погасли белые выходные створы. «Двести тридцать девятый» проскользнул мимо финских маяков и лег на ост. Если его и заметили вражеские наблюдатели, то в журнале они смогли записать лишь, что один катер типа «МО» вышел из базы Ханко в Кронштадт.
Катер за ночь трижды менял курс, прежде чем повернул к мысу Тахкуна на Даго.
Дождливое пасмурное утро не предвещало радости. Потоки холодной воды перекатывались через кораблик, и все на палубе промокли. Даже в радиорубку захлестывала вода, размазывая чернильный карандаш на бланках депеш, принимаемых радистом. Сам он в эфир не выходил, чтобы не обнаружить себя. Только в машинном отделении было сухо и знойно, здесь шторм чувствовали лишь по прыжкам катера с гребня на гребень.
Помимо Терещенко и двух друзей — Паршина и Саломатина — на мостике находились командир звена катеров и политрук.
— Не зевать! Смотреть за горизонтом! — время от времени окликал вахтенных Терещенко.
На переходе он всегда стоял молча. Но стоило появиться противнику в воздухе или на море, он настолько преображался, словно опасность веселила его; от этого веселей становилось и команде.
— Так зачем все же, Саломатин, вы пошли служить на флот? — желая развлечь товарищей, спросил сигнальщика политрук.
— Форма понравилась. И компот на третье.
— Значит, повезло вам в жизни!
— Не совсем, товарищ политрук.
— Как же так?
— Да вот форму дали, а компота маловато.
Даже Терещенко улыбнулся:
— Саломатин у нас готов одним компотом харчиться. Ему с Паршиным дай бидон компота — и больше ничего не надо.
— Это смотря по погоде, — откликнулся рулевой.
— Озяб твой Паршин, — сказал командир звена. — Ты бы выдал нам, лейтенант, всем из энзе?
— Разрешите уже после боя, товарищ командир звена.
— Думаешь, будет бой?
Терещенко промолчал.
— Ну, раз ты такой трезвенник, Терещенко, хай буде после боя, — согласился командир звена, еще глубже натягивая капюшон дождевика.
Перевалило за полдень, когда «морской охотник» вышел на траверс северного маяка Даго.
Маяка не видно. Горизонт по-прежнему заштрихован дождем. Как чайка, мелькнул за волной парус.
— Слева по курсу шлюпка, товарищ командир!
Прозвенел ручной телеграф, переведенный на «малый». Терещенко взял бинокль.
— Да, шлюпка под парусом, — подтвердил он. — В шлюпке двое.
— Подойти к шлюпке! — приказал командир звена. — Людей принять, шлюпку затопить.
Терещенко недовольно топорщил свои густые, ровно подстриженные черные усы. Разные ведь могут быть солдаты! Терещенко помнил маяк Бенгтшер, гибель катера, едва не захваченного фашистами, переодетыми в нашу форму. В Терещенко проснулся командир-пограничник. Сколько раз он мчался наперехват неизвестных мотоботов, шлюпок, лайб, догонял, конвоировал, выпроваживал из наших вод любителей хищнического лова, задерживал нарушителей, шпионов, диверсантов, которые прикидывались сбившимися с курса туристами. И сейчас он подходил к шлюпке насторожась, хотя и предполагал, что, должно быть, это солдаты с Даго.
— Обыскать! — приказал он матросам, когда пассажиров с шлюпки приняли на борт.
Их было двое, оба рослые, в чем-то похожие друг на друга. Худые, землистые лица покрылись курчавой щетиной. Ноги босые. Шинелишки — потрепанные, рваные, с чужого плеча. Под шинелью у одного солдатская гимнастерка, у другого тельняшка.
Оба покорно дали себя обыскать, понимая, что так и должно быть.
Красноармейская книжка нашлась только у одного, у младшего, в гимнастерке.
У старшего, еле стоявшего на ногах, под тельняшкой в куске клеенки были завернуты партийный билет и медаль.
— Садитесь, братки, на люк, тут потеплее, — смягчился Терещенко. — Боцман! Живо мою флягу. Откуда идете?
— С Даго, — ответил тот, что помоложе, глотнул из фляги, протянутой боцманом, и прикорнул на световом люке возле рубки; старший фляги не взял, не сел и не отвечал, он внимательно следил за политруком, в руках которого находился партийный билет.
— А служили где? — продолжал Терещенко.
— В пехотном полку. А его, — солдат задрал голову кверху, показывая на товарища, — вчера подобрал. На берегу.
Политрук резко бросил:
— Где взяли билет?
Он сравнивал оригинал с фотографией. Совсем другой на фотографии человек: молодой, полнолицый, волосы выбиваются из-под бескозырки, на которой написано: «Подводные лодки».
— Это мой партийный билет, — прохрипел матрос; его плечи, худые, но широкие, поднялись и сразу как-то заострились. — Мне его в тысяча девятьсот сороковом году выдал на Ханко бригадный комиссар Расскин.
— На Ханко? — усмехнулся политрук. — А как же вы попали на Даго?
— Спасся из потонувшей лодки.
— Один?
— Из нашего отсека трое. Сколько из остальных — не знаю.
— Дальше?
— Доплыл до Эзеля. С Эзеля перелетел на Даго. Воевал в пехоте. Остальное он вам говорил.
— Недурно придумано. Так, говоришь, не от фашистов ты?
— Я русский. Богданов моя фамилия, Александр Тихонович.
— Товарищ политрук, разрешите, — подскочил вдруг Саломатин. — Александра Богданова я лично хорошо знаю. Только он не такой. Ростом маленький, служит на зенитной батарее. Сейчас у Гранина.
— Богданыч-меньшой? — вырвалось из груди допрашиваемого.
— Артист! — прорычал Саломатин. Оба одного роста, они смотрели сейчас глаза в глаза.
Саломатин увидел, как заиграла жизнь в утомленных глазах матроса, как зарумянились его впалые щеки, когда тот горячо заговорил:
— Это мой однофамилец, друг, брат. Вместе служили на финской у капитана Гранина.
— А кто такой Гранин? — вмешался Терещенко.
— Командир артиллерийского дивизиона на Утином мысу.
— Еще кого знаешь на Ханко?
— Жена моя там. В госпитале работает. Летчика Белоуса знаю. Я с ним с Эзеля летел.
— На истребителе? — удивился Терещенко.
— Да.
Терещенко покачал головой. Он быстро взглянул на товарищей и, примяв двумя пальцами усы, сказал не то вопросительно, не то утвердительно:
— Белоус — это усатый такой?
— Огнем его выбрило.
— А ты когда с Ханко ушел?
— С лодкой. Двадцать второго июня.
— Странно, — сказал политрук. — Почему же тебе билет выдавал политотдел базы, а не политотдел подплава?
— До двадцать второго июня я служил на берегу. Киномехаником… — Матрос отвечал устало и безразлично.
Терещенко что-то вспоминал.
— Не сердись, браток. На то война, чтобы проверять. Я тебе еще один вопрос задам. Скажи: какую картину показывали на Ханко в ночь перед войной?
— Я в ту ночь собирался в отпуск с женой. Но картину помню: «Антон Иванович сердится».
«Кажется, правду говорит», — решил Терещенко.
— Ну, скажи: что там, на Даго?
— Не ходите туда. Наших там уже нет. Немцы снимают с убитых форму, переодеваются, чтобы выдать себя за русских.
Катерники вновь насторожились.
— Значит, там ловушка?
— Ловушка, не ходите.
— Ладно уговаривать! — нахмурился Терещенко. — Боцман! Накормить и содержать в кубрике…
— Правильные ребята, — бросил вслед ушедшим командир звена. — Хотя всякое бывает. На Осмуссаар фашисты подослали на шлюпке двух лазутчиков — не то что с документами, а перебинтованных с ног до головы. Выяснилось, что им специально ранения нанесли. Били на сочувствие…
— На Ханко разберемся, — махнул рукой политрук.
— Зачем на Ханко? Сейчас разберемся, — сказал Терещенко. — К Даго подойдем и увидим, врут или не врут.