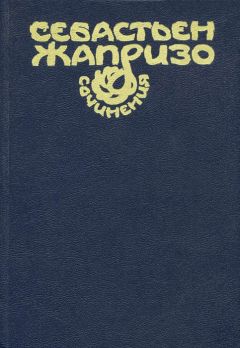Даниэль Клугер - Стоящие у врат
Как и следовало ожидать, выходка Макса Ландау оказалась кульминацией всего спектакля. Дальше «Купец» шел по вполне традиционной колее — разве что Порция в роли «судьи» в финальных сценах оказалась в странном наряде — в костюме Арлекина и черной полумаске. Вообще, сцена суда была поставлена Максом Ландау как трагический балаган. Ощущение в немалой степени усиливалось за счет громкого звука расстроенного пианино, напоминавшего звук дешевой уличной шарманки. Немного смущали и подчеркнуто нееврейские, арийские черты во внешности Джессики и в мужском ее костюме, в который она переоделась перед побегом из отцовского дома. Это была рискованная шутка — сродни монологу, прочитанному по-немецки Максом Ландау. Джессика была в темном (слава Богу, не черном) пиджаке, слегка напоминавшем военный френч, высоких сапогах. Ну и, конечно же, ее ослепительно светлые, коротко остриженные волосы резко контрастировали с темными волосами прочих персонажей. Я сразу же вспомнил слова г-на Ландау о тех изменениях, которые распоряжением д-ра Геббельса были введены в текст шекспировской комедии: Джессика — не родная дочь Шейлока… При том, что все прочие персонажи пьесы, как евреи, так и итальянцы, из-за идиша производили странное впечатление — евреи, занятые своими внутренними распрями, эффект получился своеобразным: наименее симпатичный персонаж спектакля имел явно выраженные арийские черты. К тому же актриса, исполнявшая роль Джессики, недостаточно хорошо владела идишем, во всяком случае, говорила с сильным акцентом. Впрочем, это могло показаться только мне.
Луиза Бротман прошептала: «Рахель чудесно играет, я ее видела незадолго до войны в „Двух веронцах“. Но ей совсем не идет светлый парик…»
Напряжение от рискованного монолога постепенно спало — во всяком случае, когда занавес опустился, зрители аплодировали дружно и с явным облегчением.
Комендант и его сопровождающие вышли из зала первыми. Прочие последовали на улицу после небольшой паузы.
— Как он талантливо все придумал, — негромко сказала Луиза, пока мы стояли на некотором расстоянии от выхода, к которому устремились зрители. — Вы обратили внимание на устройство сцены? И кресел в зрительном зале? Именно их кажущаяся грубость и небрежность, шаткость создавали ощущение неуверенности… На самом-то деле все сделано вполне прочно. Но все как будто вот-вот обрушится, от малейшего движения, даже от громко произнесенного слова…
— Да? — я искренне удивился. — Мне кажется, что все было просто сколочено на скорую руку.
— Что вы! — возразила Луиза. — У Макса… у Ландау не бывает случайностей. И это вовсе не зависит от внешних обстоятельств… Кстати, вы не обратили внимания — по-моему, его жена в зале отсутствовала.
— Может быть, она ждет мужа за кулисами, — предположил я.
— Да, возможно… Доктор Вайсфельд, — сказала вдруг Луиза. — Я вам очень благодарна, но, если вы собираетесь меня провожать, я вас прошу этого не делать. Кроме того… — ее щеки вдруг чуть порозовели. — Кроме того, я попрошу вас выйти на несколько минут позже. Пожалуйста, доктор, задержитесь немного. Мне нужно выйти одной. Не обижайтесь, это мне действительно необходимо.
Разумеется, я подчинился. Чувство разочарования, возникшее после ее слов, позабавило меня самого. Собственно говоря, удивительно устроен человек! Достаточно произойти чему-то, напоминавшему пастельный отблеск прошлого, как он начинает себя вести нелогично. Только провожая взглядом стройную медсестру, я вспомнил, что театр — на самом деле, не театр, и я — не преуспевающий или, во всяком случае, свободный врач, а госпожа Бротман — отнюдь не объект флирта или серьезных ухаживаний. И вокруг нас не Берлин, не Варшава и не Вена, а все то же гетто под названием Брокенвальд…
Послушно прождав что-то около четверти часа, я двинулся по опустевшему коридору к выходу. И тут меня кто-то осторожно похлопал по плечу. Я обернулся. Это оказался рабби Аврум-Гирш. Выглядел он достаточно необычно — как человек, неожиданно для самого себя узнавший какую-то тайну и еще не решивший, делиться ли ею с кем-либо. Он ничего не сказал, только знаком поманил меня и быстро направился к двери, которая вела к подсобным помещениям. Ничего не поняв, но достаточно заинтригованный его поведением, я последовал за ним.
Он остановился в узком боковом коридоре, у двери с написанной от руки надписью «Гримерная. М.Ландау». Посмотрел на меня, приложил палец к губам и открыл дверь, пропуская вперед. Я хотел спросить, что происходит, но он вновь приложил палец к губам и подтолкнул к входу. Машинально я сделал два шага, так что оказался внутри, не сразу оценив открывшуюся взгляду картину. Рабби вошел следом и спешно прикрыл за собою дверь.
Я оглянулся, затем всмотрелся в полумрак гримерной (тут горела лишь одна свеча — вернее, догорала, — на маленьком столике, перед зеркалом. В широком старом кресле полулежал все еще обряженный в костюм Пьеро Макс Ландау, но его набеленное лицо обращено было не к зеркалу, а к входу, так что я сразу же встретился с ним взглядом.
— Добрый вечер, господин Ландау, — произнес я. Вернее, собрался произнести, потому что уже через мгновение отметил особую неподвижность взгляда режиссера и беспомощно упавшие руки.
— Ч-черт побери… — прошептал я. — Он что… Ему плохо? Нужна моя помощь?..
Никакая помощь господину Ландау уже не была нужна. Склонившись над ним, я увидел большое темное пятно (в тусклом, колеблющемся свете огарка оно казалось черным) расплывшееся вокруг желтого листка-звезды.
Макс Ландау был мертв.
Первым моим желанием было немедленно покинуть это место, но, пересилив себя, я вновь склонился над покойником. Несомненно, он был убит — ножом или чем-то вроде того. Убийца нанес удар в самое сердце. Словно для того, чтобы исключить промах, желтый листок был нашит прямо напротив сердца… Я осторожно коснулся пальцами бурого ореола. Кровь еще не успела застыть.
От прикосновения бутафорский листок дрогнул. Нож убийцы — почти рассек его, и в мою ладонь упали две половинки вырезанного из раскрашенной бумаги кленового листа. Я машинально спрятал их в карман.
— Напрасно вы это делаете.
Незнакомый низкий голос, чуть глуховатый, заставил меня вздрогнуть. Раввин же Шейнерзон от неожиданности подскочил на месте и бросился к двери.
— Нет-нет, не пугайтесь.
— Кто здесь? — спросил я, стараясь говорить уверенно и вглядываясь в неосвещенный угол гримерной, заваленный всяким хламом. Храбрость придавал мне тот факт, что я не один. Хотя от рабби Аврум-Гирша, обратившегося в соляной столб, было мало толку, но вряд ли убийца рискнет напасть сразу на двоих.
Куча тряпья зашевелилась. Из темноты к нам шагнул человек весьма странной и примечательной наружности. Он был очень высок — почти на голову выше меня, а я никогда не числился малорослым. Что же до сложения, то трудно было судить, ибо фигуру его полностью скрадывали причудливые лохмотья, в которых угадывалось многократно латаное пальто, очевидно, когда-то принадлежавшее истинному великану. Незнакомцу, остановившемуся в центре импровизированной гримерной, ставшей внезапно подмостками трагедии, это бывшее пальто доходило до пят.
Черты лица его, несмотря на стертость, характерную для всех заключенных, производили впечатление стремительных, а взгляд глубоко и чересчур близко посаженных глаз был острым и проницательным. Обращала на себя внимание чрезмерная бледность кожи, характерная для людей, редко бывающих на солнце или же долгое время проведших в подвалах и подземельях.
Именно странный наряд, больше напоминавший костюм Арлекина-Порции, показался мне кучей тряпья, не позволившей сразу же разглядеть обладателя.
— Я сообщу господину Шефтелю, — хриплым от напряжения голосом сказал раввин. — Он должен знать о случившемся. По-моему он еще не ушел. И господин Зандберг тоже. Пусть пришлет своих полицейских.
Я испытал мгновенный укол страха. Что я скажу им? И потом… Неожиданно пришедшая в голову мысль заставила меня похолодеть.
— Не стоит, — голос мой тоже напряженно подрагивал. — Не надо никому ничего говорить. Не надо звать полицейских, — я взял рабби Аврум-Гирша под руку. — Это опасно, рабби…
Реакция раввина оказалась неожиданной. Он вжался в угол, а на лице его — не то детском, не то старческом — обозначилось выражение сильнейшего испуга.
— Вы?.. — пролепетал он. — Это сделали вы, доктор Вайсфельд?
Я опешил.
— Успокойтесь, господин раввин, — сказал незнакомец, с вежливым интересом наблюдавший за этой короткой сценой. — Доктор просто опасается, что нас всех могут обвинить в причастности к этому несчастью. Он совершенно прав — пока не стоит никому ничего сообщать… — он вдруг замолчал, прислушался и спешно вытолкал нас из гримерной, при этом приговаривая вполголоса: «Пойдемте, пойдемте отсюда…»