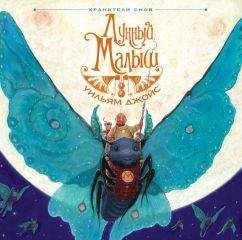Николай Михайловский - Всплыть на полюсе!
И тут Зайцев признался:
— Я принял его совет. Жалею. Своей головой надо было думать.
— Приняли? Странно. Трофимов утверждает, будто это ваше единоличное решение.
— Пусть будет так! — согласился Зайцев, а самого передернуло от досады: кому доверился!
Он вспомнил решительный тон, которым Трофимов убеждал, что здесь мины, а не подводные лодки, и стало невмоготу… Рассказать, что ли, как все было? Нет, еще подумают — Зайцев выкручивается. А он вовсе не собирается свалить вину на кого-то. Он командир корабля. Сам принял решение. Ему и ответ держать!
…Мела пурга, снежные вихри кружились, сплетались в клубки и неслись по земле. Под порывами шквального ветра скрипели мачты, железо гремело на крышах портовых зданий. Корабль, пирс и все окружающие постройки утонули в темноте, сквозь которую мерцал, раскачиваясь на гафеле, один-единственный синий огонек.
Матрос, стоявший у трапа, кутался в густую овчину полушубка. И глаза его напряженно смотрели в темноту.
Зайцев вырвался из мрака и оказался возле самого трапа. Матрос увидел неясную фигуру в снегу и хотел было крикнуть: «Стой, кто идет!», но не успел и рта раскрыть, как услышал знакомый голос:
— Смотри, как бы тебя не замело!
Матрос крикнул «Смирно… Вольно», а затем пробормотал сквозь зубы:
— Не заметет. Привычны, товарищ командир…
На палубе он встретил Трофимова.
— Здравия желаю, товарищ командир!
— Здравствуйте! — сдержанно ответил Зайцев и, не задерживаясь, быстро прошел дальше.
За ним едва поспевал Трофимов. У самой двери в каюту он смущенно спросил:
— Как у вас там, товарищ командир? Обошлось?
— Обошлось! — бросил Зайцев и перед самым носом Трофимова бесцеремонно захлопнул дверь.
И почему-то опять вспомнился вежливый, предупредительный американский капитан, его улыбка, блеск зубов и упрямые доводы: мы живем в век практицизма. Отношения между людьми строятся на взаимных выгодах. Если человек тонет — он остается один. Никто не бросится его спасать. Никто не заступится. Сам боится пострадать.
Убогая философия! И Зайцев еще раз с уважением подумал о Максимове.
Расшнуровав ботинки, он снял брюки и вытянулся на койке. Спать не хотелось. Он скрестил руки над головой и напряг весь свой разум, чтобы ответить на вопрос: почему Трофимов обманул командира базы? Побоялся ответственности или хотел все сделать, чтобы Зайцев больше сюда не вернулся?
Удивительное стечение обстоятельств: второй раз судьба его сводит с этим человеком. «Злой дух живет в Трофимове», — подумал Зайцев и тут же посмеялся над собой. Никаких злых духов не существует. Век живи, век учись… У человека, тем более военного, всегда должна быть уверенность в своих силах, своя твердая позиция. Если ты рохля, другим в рот смотришь и ждешь, что они подскажут, — грош тебе цена! Ты не заслуживаешь уважения. Тебе нельзя доверить корабль и человеческие жизни, потому что в минуту, когда нужно принять решение, ты засомневаешься в самом себе и погубишь задуманное дело. Не легкой ценой пришел Зайцев к пониманию этой, быть может и не сложной, житейской истины…
И все же ему не давала покоя другая мысль: зачем Трофимов подсказал решение уйти — по незнанию обстановки или со злым умыслом?..
Утро не принесло облегчения. Болела голова, покалывало сердце.
В каюту явился инженер-механик, протянул руку и со свойственной ему доброжелательностью поздравил командира с окончанием всех неприятностей.
— Спасибо. Пришлось там попотеть…
— Да, нехорошо получилось, — подтвердил Анисимов. — Мы ведь могли сбросить глубинные бомбы, если не потопить, то хоть как следует шугануть немцев, а тем временем оказать помощь Максимову.
— Кто же знал, что там были лодки?! Ведь не я один, Трофимов тоже принял их за мины.
— Ну что Трофимов! Ему не отвечать. Он скользкий как налим. Сегодня говорит одно, завтра другое.
Зайцев пристально посмотрел в глаза Анисимову:
— Вы думаете, он ошибся?
— Конечно. Зачем же ему вас путать… Урок, товарищ командир, на всю жизнь.
Зайцев задумался: «Урок! И к сожалению, не первый!»
— Теперь какие планы, товарищ командир? — осведомился Анисимов.
— Задание есть. Пойдем к Мысу Желания. Там немецкая подводная лодка орудует, обстреляла и сожгла продовольственный склад. Мы должны доставить продовольствие и боеприпасы…
— Ледокол будет? Или как?
— Наивный человек! Какой ледокол? Откуда он возьмется? Должны пробиваться своими силами.
— Как можно самим, если там плавучий лед!
— Должны, понимаете — должны! — упрямо повторил он.
Анисимов стоял озадаченный, он знал, как трудно и опасно плавать в эту пору на Крайнем Севере. Чем ближе к полюсу, тем больше туманов, толще и плотнее льды. Однако нельзя было не понять Зайцева: у него нет выбора, он не может возражать, если комдив принял такое решение и сам идет вместе с ними.
Глава девятая
От большой пузатой цистерны на берегу протянулись шланги: корабль заправляли соляром. Подходили машины со снарядами и продовольствием. Матросы проворно подхватывали на спину ящики, мешки и нескончаемой чередой шагали по трапу туда и обратно, туда и обратно…
В разгар аврала на пирсе показался Максимов вместе с Шуваловым. Матросы, работавшие на погрузке, остановились, застыли руки по швам. Они стояли молча, и только улыбки на лице могли передать их радость.
После команды «Вольно» все бросились к комдиву, образовался живой забор, сквозь который не мог пробраться даже Зайцев.
Справлялись о самочувствии, вспоминали каждый свое, и никто не решился спросить о гибели корабля. Максимов сам начал рассказывать. Матросы слушали опустив голову, точно отдавали дань уважения погибшим товарищам. А Максимов смотрел на молодые лица и думал: «Люди всегда должны друг другу, знакомым и незнакомым. Если человек живет честно, правильно, значит, он живет для всех и для общего дела, а иначе его жизнь ничтожная, дрянная. Никто о нем не вспомнит, никому он не нужен».
После всего, что довелось пережить, Максимов еще больше в это поверил, и единственное, что владело всем его существом, — не остаться в долгу перед погибшими друзьями. «Если суждено уцелеть, то только так, чтобы жить, отдавая себя людям и делу, которому ты служишь. А если погибать, то тоже, как они, в битве за людей…»
Корабль снимался со швартовов в десять ноль-ноль. В этих краях еще только наметился рассвет, небо светлело, а вода казалась черной как смола. К счастью, стихли бушевавшие всю неделю колючие северные ветры и островная земля, покрывшаяся глубоким снегом, лежала в полном покое.
Зайцев стоял на мостике в валенках, кожаном пальто на меху, ушанке и смотрел вниз на палубу, на боцмана, покрикивавшего на своих молодцов, поглощенных работой.
С берега отдали концы, между кораблем и пирсом пролегла узкая полоса воды.
Удаляется, остается позади бухта и домики, раскинувшиеся на побережье. Где-то там кабинет сурового командира базы. Накануне вечером, когда Максимов и Зайцев явились к нему осведомиться насчет обстановки и получить последние указания, контр-адмирал Назаров был вежлив, предупредителен, сообщил все данные о противнике и, пожав руку Зайцеву, в качестве напутствия сказал:
— Мне хочется, чтобы на этот раз вы оправдали наши надежды. Помните — только победителей не судят…
«Только победителей» — так сказано не зря. Значит, хотят посмотреть, на что он способен. В бою проверяются люди. А как сложится обстановка — трудно заранее предвидеть. «Хорошо хоть я не один, рядом Михаил, в случае чего поможет…»
Пока Максимов отдыхал, Зайцев один находился на мостике, обдуваемый холодным колючим ветром, со всего размаха набрасывавшимся на мостик и готовым сорвать парусину обвесов и свалить с ног людей, пытающихся с ним спорить…
Издалека катились пенистые валы, тральщик прыгал с волны на волну, раскачивался, как скорлупка: то зарывался носом в пучину, то снова взмывал на высокий гребень. В такие минуты палуба казалась крутой горкой. Зайцев опасливо глядел на ящики со снарядами и продукты, укрытые брезентом, принайтовленные жестким тросом, словно приросшие к палубе. Что ждет впереди…
Шувалов заступил на вахту. Он сменял своего напарника Серегу Голубкова, робкого большеголового парня, с глазами навыкате и испугом, застывшим на лице. Поначалу парнишка был заражен болезнью, которую Шувалов метко называл «перископоманией»: ему все чудились перископы, за гребешком каждой волны, ему казалось, таится перископ немецкой подводной лодки, а пустые бочки он неоднократно принимал за вражеские мины. Шувалов терпеливо учил своего напарника отличать «где бог, а где черепаха».
— Ну как, друже? — обратился он к съежившемуся Сереге.



![Альфонс Доде - Малыш[рис. В.С. Саксона]](/uploads/posts/books/138467/138467.jpg)