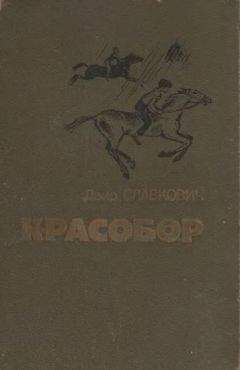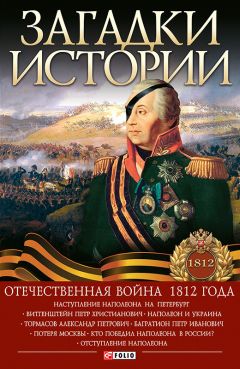Антон Деникин - Офицеры
Рунов торопливо повернул к выходу. У двери старуха остановила его:
— Что теперь с нами будет, ваше благородие? Ничего не ответив, он захлопнул дверь; сошел вниз и остановился. «Что же теперь делать?» Случайно взгляд его упал на медную дощечку с фамилией соседа — инженера Можайского. Быть может, они что-нибудь знают? Позвонил, потом стал стучаться. Долго не открывали, наконец чуть подвинулась дверь на цепочке; кто-то выглянул.
— Здесь живет господин Можайский?
— Здесь.
— Я бывший ваш сосед, Рунов, хотел бы видеться с ним. Откройте, пожалуйста.
Дверь захлопнулась. Послышался шепот, голоса, топот шагов, и в распахнувшейся настежь двери появился Можайский. Рунов попал в объятия полузнакомой семьи. Его целовали, жали руки, говорили все четверо вместе — инженер, его жена, сын и какая-то родственница. Увлекли его дальше, в столовую, выходившую окнами во двор, где считали себя в большей безопасности. Рунов шел за ними, спотыкаясь в полутьме — все ставни были закрыты, окна заложены матрацами. Шел растерянный, смущенный…
— Как вы думаете, можно зажечь электричество, это не опасно?
— Можно, конечно.
— Вы — наши спасители! Боже мой, какое счастье! Если бы вы только знали….
Они все наперебой стали рассказывать, какой ужас царил в Одессе последнее время, и пытливо, опасливо старались выведать, много ли добровольческих войск вошло в город, прочно ли он занят?
Рунов отвечал односложно, томился и никак не мог перенести разговор на волнующую его тему. Наконец, перебив бесконечный рассказ Можайского, спросил:
— Я заходил в свою квартиру и нашел там каких-то беженцев. Не знаете ли чего-нибудь о судьбе моей жены?
— Любовь Николаевна! Вы разве не знаете? Она ведь эвакуировалась. Мы тогда всем домом бросились в порт… Это был такой кошмар…
И опять все вместе наперебой стали рассказывать об ужасных днях эвакуации, обо всем, что наболело за эти страшные недели, месяцы. Рунову хотелось знать всякую мелочь, касавшуюся его жены, но его собеседники продолжали упорно, с наивным эгоизмом вводить его в круг своих личных злоключений. Перебивая разговор, он все же выяснил положение в общих чертах: жене его удалось сесть в последнюю шлюпку, перевозившую беженцев на французский пароход. Можайские остались на берегу и принуждены были вернуться к себе на квартиру. Относительно вещей Любови Николаевны показания расходились: сын Можайского уверял, что ничего, кроме маленького саквояжа, с ней не было, а жена инженера доказывала, что Любовь Николаевна успела погрузить два больших чемодана. И доказывала упорно, не без некоторого раздражения.
Рунов спросил, не знают ли Можайские поручика Побельского и что с ним? Оказалось, знают и были уверены, что он в Добровольческой армии, так как домой с фронта поручик не возвращался. А старуха мать его с внучатами, чтобы скрыть следы, выехала со своей квартиры на другой же день после ухода добровольцев и никому своего адреса не оставила…
В тот же вечер Рунов, попав случайно на французский миноносец, ушел в Новороссийск.
* * *
Кинематографическая лента поэтических образов в душе Рунова изменила свое содержание, но не пресеклась. Теперь воображение рисовало ему шаг за шагом, день за днем скорбный беженский путь его жены: одна, без денег, без друзей, слабая, беспомощная, брошенная в сутолоку чужой жизни… Грязный угол. Тяжелая непривычная работа, унижения на каждом шагу. Голод… Иногда больной душе его представлялся узкий и грязный переулок Стамбула или рабочий квартал большого бездушного европейского города и на фоне их — жалкая женская фигура, протягивающая руку… Он доводил себя до крайнего возбуждения, переживая совершенно реально ее боль, ее чувства… Дальше уже реализм терялся: путем волшебных превращений, отметая время, преодолевая пространство, изменяя по воле ход событий, он летел туда, находил ее и останавливал в последний миг занесенную над ней руку судьбы — безжалостной и несправедливой. А еще дальше — все было окончательно сумбурно, бесформенно, но чудесно и радостно…
В приемные иностранных миссий, в канцелярию военного управления, откуда периодически ездили за границу курьеры, стал приходить хромой полковник с неизменной просьбой — отправить письмо. На конвертах стояли адреса русских посольств и заграничных газет. Письма принимались почти всегда любезно; иногда они доходили по назначению, но чаще курьер еще в пути освобождался от излишнего, по его мнению, «хлама».
И прежде не особенно общительный Рунов теперь совсем замкнулся в себе, уединился и не принимал участия в товарищеских собраниях и пирушках. Для спасения жены нужны ведь будут деньги, и он старался копить из скудного жалованья, ограничив до крайности свой бюджет…
Между тем события «внешней» жизни текли своим чередом — огромные, потрясающие… Добровольческие армии были в зените своих успехов.
Рана зажила, и Рунов тотчас же поехал на фронт, догнав свой полк уже в Киеве. В первом же бою на Ирпе-ни, ведя батальон в атаку, он захотел проверить свое самообладание и остался доволен собой. А командир полка, видевший его в цепи, говорил потом:
— Иван Андреевич, с ума ты сошел! Куда ты лезешь? Это звучало большой похвалой в устах командира, который в бою сам «лез, куда не надо».
Рунов продолжал свои поиски самыми разнообразными путями. Так, прочтя в газете, что в Киев прилетели с Польского фронта французские летчики, он в тот же день отпросился в город, отыскал французов и вручил им свои письма… Эта слабость Рунова не ускользнула от сослуживцев, и в полку за ним установилось прозвище. Об этом он узнал случайно. Однажды, перебирая почту, увидел открытку со знакомым почерком. Приняв ее за свою, пробежал несколько строк. Открытка была капитану Смольскому — его сожителю — от их общего друга и заканчивалась фразой: «Обними за меня нашего Кладоискателя»… Рунов не обратил внимания на эти слова, но невольно вспомнил их, когда, вернувшись домой, Смольский прочитал открытку и сказал:
— Сахаров тебе кланяется. Рунов густо покраснел.
* * *
Бои шли изо дня в день. Но в темпе их стала чувствоваться какая-то неустойчивость, какие-то перебои. Официальные бюллетени по-прежнему еще дышали оптимизмом, а в городе ползли уже панические слухи. Киев все четыре месяца власти белых находился почти в осаде, и это вносило нечто беспокойное в общий ход жизни, нависало тягостным предчувствием над людьми и деяниями их, мертвило волю и дух.
И катастрофа разразилась наконец, повернув колесо событий, расстроив все человеческие планы и надежды, разметав людей, как щепки после бури… Одна из таких щепок была заброшена в польский концентрационный лагерь…
Выбитый из колеи, оглушенный, Рунов переносил стоически все внешние условия своей теперешней жизни, вернее, он не замечал их. Его тяготило только ограничение свободы и отсутствие средств, не давая возможности продолжать «поиски клада» — так сам он иногда шутил теперь над собою. Добровольческие «колокольчики», с таким трудом накопленные, потеряли всякую ценность и имели спрос разве только у коллекционеров.
Так продолжалось довольно долго. Но как-то раз в составе делегации от благотворительного общества, посетившей их лагерь, Рунов узнал своего бывшего профессора — поляка. Профессор занимал теперь кафедру в Варшаве; он помог молодому полковнику выйти из лагеря и устроиться на работу. Не надолго, однако. Безотчетное чувство, смутные надежды, какое-то болезненное беспокойство гнали Рунова с места на место. Не раз, к удивлению и обиде своих знакомых, помогавших ему устроиться, он бросал неожиданно для них — и, может быть, для себя — службу и заработок и уходил как будто без цели и без смысла в другой город, где не было ни пристанища, ни работы. Так он побывал в Вильно и Познани, пробрался в Берлин, потом с волною русских беженцев перекатил в Париж. Теперь он — человек, обладающий ученой степенью, полковник, Георгиевский кавалер и инвалид — служит на заводе, manoeuvre'oм; в течение девяти часов производит перед станком два однообразных движения правой рукой, имеет бирку с № 1001 и пользуется расположением contremaitre'a. Каждый раз, проходя мимо, тот хлопает Рунова по плечу и произносит единственное слово, вынесенное им из Одессы, куда он ходил механиком на военном корабле:
— Karacho!
Переезды поглотили последние крохи. Кабальный договор с заводом был жесток и невыгоден. Кое-как хватало на жизнь, но нечего было и думать пока скопить что-нибудь или хотя бы приодеться. Четырехмесячный обязательный срок пребывания на заводе подходил, впрочем, к концу, и Рунов обдумывал уже свой дальнейший путь и способы возобновить поиски.
Как вдруг этот странный случай…
* * *
Было воскресенье. Густой туман застилал улицы и глушил свет только что зажженных фонарей. Рунов, возвращаясь домой, пересек площадь и стал в очередь у остановки трамвая. Толпа, выходившая из вагона, нажала и оттеснила его. Подавшись назад, полковник толкнул кого-то сзади, оглянулся, чтобы извиниться, и… застыл. Что это — сон, видение? Разительное сходство или больное воображение? Не может быть!