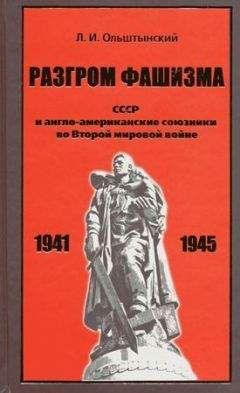Юрий Гончаров - Теперь-безымянные
Сквозь рассеянный в воздухе дым и вечерний туман цель виднелась на сетке линз неясно, расплывчато, расстояние до нее было велико, но Гофман все же решил немедленно ее обстрелять. Он просто рад был случаю продемонстрировать известному корреспонденту и офицеру дивизионного штаба, как ловко, расторопно, с какой отличной выучкой действуют его ребята, как быстро и точно исполняют они боевые приказы.
Он сказал несколько слов по телефону, и почти немедленно на площадке появилась кучка солдат с тяжелым крупнокалиберным пулеметом, годным для стрельбы по танкам, бронированным тягачам, самолетам-бомбардировщикам — по всем труднопоражаемым и далеко отстоящим целям.
Пулемет установили, просунув ствол в фигурный вырез в парапете, и пулеметчик, каждый раз тщательно прицеливаясь сквозь специальное оптическое устройство, послал несколько длинных очередей. Пустые гильзы, выброшенные механизмом пулемета, со звоном сыпались на бетонный пол и раскатывались в стороны. Гофман поднял одну из гильз, длиною в ладонь, еще горячую, покрытую белесой пленочкой порохового нагара, и подал Эггеру — как память о посещении передовых позиций.
Имел ли обстрел какой-либо результат — осталось неизвестным: вечерний сумрак, усиленный дымной мглою, стал уже так плотен, что даже в стереотрубу не было видно далей.
Проводить Эггера собралась большая группа. Эггер, дружески улыбаясь, пожал всём руки, с особой сердечностью — маленькому Гофману, который ему очень понравился и к которому он чувствовал искреннюю симпатию. Солдаты, унтер-офицеры провожали Эггера тоже дружескими улыбками, пожеланиями благополучия, выражениями надежды встретиться с Эггером еще не один раз, при новых его корреспондентских поездках, просьбами прислать журналы, в которых будут напечатаны репортажи Эггера с В-ского фронта. Эггер обещал непременно это исполнить.
В небо уже выползла луна и рдела, безуспешно пытаясь разгореться ярче в пластах дыма, нависших над городом. Огромное здание больницы, внутри черное, снаружи — розовато-белесое от слабого лунного света, было наполнено тишиной. Молчал и окрестный полевой простор, плотно закутанный мглою.
Безмолвствование противника, тишина, сковавшая все окружающее больницу пространство, у солдат, засевших за ее толстыми, почти крепостными стенами, создавали отчетливое впечатление, что только они остались полновластною силою на здешней земле.
И если бы кто-либо мог предугадывать события и вдруг прорицательно сказал бы провожавшим Эггера молодым, крепким, здоровым людям, полным ощущения жизни, своей силы, своего превосходства над врагом, какая участь ждет их всех через несколько часов в этих стенах, которые выглядели как самое надежное, самое безопасное место на всем восточном германском фронте, — этому предсказанию просто-напросто никто бы не поверил: таким показалось бы оно каждому неправдоподобным и невозможным…
* * *Одною из пуль, посланных в присутствии Эггера с крыши больничного солярия и, как самые низкие контрабасные струны, прогудевших возле бревенчатой дозорной вышки, был ранен комдив Остроухов.
Федянский и вызванный им наверх сержант с невероятным трудом, намучившись до жаркого пота, спустили Остроухова на землю. Невеликое и худощавое его тело, безвольно обмякшее, точно налилось дополнительной тяжестью, и казалось, что оно значительно превышает вес, какой должно было бы иметь по своим размерам. Остроухов не стонал, не охал. Цепляясь руками за перекладины, он помогал, как мог, себя спускать. Лицо его было без кровинки.
Только уже на земле, расстегнув ремень и задрав на Остроухове гимнастерку, Федянский увидал, что ранение комдива смертельно. Полуторастограммовая, одетая в бронебойную оболочку пуля пронзила его насквозь — ударила в левый бок и вышла из правого, раздробив кости таза.
Федянский, потрясенный тем, что он был от комдива в полуметре и сам мог получить такое же страшное ранение, растерялся. У него задрожало внутри, задрожали руки. Он нервно закричал на солдат, чтобы подвели лошадь.
Лошадь подвели, однако оказалось — ни посадить, ни положить на нее Остроухова нельзя. Тогда Федянский крикнул, чтобы кто-нибудь бежал за носилками. Сержант, тоже взволнованный, но не потерявший рассудительности, возразил:
— Да понесемте так, а то пока пробегаем — они кровью изойдут…
Один из солдат находчиво отворотил от вышки пару жердин, поперек накидали хвороста, уложили Остроухова и быстро понесли, приостанавливаясь только затем, чтобы поправить его тело, когда оно начинало от тряски сползать.
Федянский, все еще в состоянии потрясенности, с головою, как бы наполненною туманом и звоном, лишавшими сознание полной ясности, торопя бойцов и сам помогая нести комдива, не представлял, однако, толком, куда надлежит им его нести и что они будут делать дальше. Медсанчасть дивизии со всеми врачами и средствами, нужными сейчас Остроухову, находилась еще где-то далеко в тылу, на дорогах, даже неизвестно где, с полками в этот пригородный лес пришло лишь несколько девчонок-санинструкторов с двумя десятками подвод для транспортировки раненых и запасом перевязочных материалов, годных для оказания только самой неотложной первой помощи.
Путь по лесным зарослям с тяжелыми неудобными носилками был нелегок; одолев один за другим два оврага и спустившись в третий, солдаты окончательно выбились из сил, все в поту, запаленно дыша раскрытыми ртами.
Это была уже зона расположения полков, и проще и скорее было вызвать санитаров сюда, чем мучить Остроухова, волоча его на кривых жердях дальше.
Федянский велел опустить носилки на сухой травянистый бугорок и послал солдат разыскать и немедленно доставить сюда санитаров с их старшей фельдшерицей Галей Самойловой. Он строго предупредил, чтобы солдаты не разглашали о ранении комдива, известили о нем — и то по секрету — только тех немногих лиц, фамилии которых Федянский назвал. Он считал, что в полках не должны знать о ранении Остроухова, факт этот нужно держать в тайне, чтоб не нарушилось, не пострадало моральное состояние.
Солдаты спешно ушли, а Федянский и сержант, которого он на всякий случай оставил, склонились над Остроуховым.
— Устин Иванович, как? — спросил Федянский, осторожно касаясь руки Остроухова.
Остроухов чуть слышно проскрипел зубами.
— Потерпите немного, сейчас врачи придут… — сказал Федянский, напряженно думая, что бы еще такое успокоительное сказать Остроухову и не находя слов. Все внутри у него было облиго холодом и сковано от сознания, что ничто, никакие врачи и никакие средства не в состоянии спасти Остроухова, даже хоть сколько-нибудь оттянуть неотвратимое. Вот так же осенью прошлого года во время боев под Вязьмою был ранен начальник политотдела дивизии, в которой служил Федянский, сильный, могучий, атлетического сложения мужчина, и умер, его даже не успели перевязать…
— Жаль… ах, жаль!.. — мучаясь в единой боли тела и души, как бы для одного себя, негромко, с тихим стоном выдохнул Остроухов и пошевелился на подстилке из хвороста — в каком-то таком движении, которое было вызвано даже не столько страданиями тела, сколько болью в его так же сильно и нестерпимо страдающей душе.
— Может, воды им дать? — спросил участливо сержант, снимая с пояса фляжку. — Родниковая…
— Устин Иванович, может, воды хотите? Родниковая! — сказал Федянский, зная, что раненым в область брюшины давать воду не полагается, и думая про себя, что правилом этим можно пренебречь — все равно уж…
На склоне оврага затрещали ветки, послышались голоса — это возвращались солдаты с Галей Самойловой. За ними следовало трое или четверо старших командиров дивизии, всполошенных полученным известием.
Федянский передал им Остроухова, а сам, не медля, отправился на КП дивизии, чтобы сообщить о происшествии Мартынюку.
Связь с его КП была уже налажена, действовала.
— Что? Кто говорит? — зарычал в трубку Мартынюк, хотя Федянский в самом начале ясно и четко назвал себя. — Как — ранен? Почему — ранен?
Казалось, он дальше возмутится: да кто ему это позволил?!
Но вместо этого Мартынюк лишь длинно, забористо выругался.
— Зачем он туда полез-то, чего его туда понесло?! Федянскому захотелось кольнуть Мартынюка, сказать, что, если б его штаб не пренебрегал разведкой, им с Остроуховым не пришлось бы лезть на эту проклятую вышку и с комдивом не случилось бы того, что случилось. Но это была уже такая дерзость, которую Федянский, избегавший в отношениях с начальством остроты, никогда бы не решился себе позволить.
— Значит, серьезно? — спросил Мартынюк.
— Серьезно, товарищ генерал-лейтенант. Если говорить с абсолютной точностью — безнадежно.
— Ах, ты! — И Мартынюк снова запустил длинное выражение.
Он был по-настоящему, до крайности раздосадован. Федянский не ожидал этого, его даже удивила такая неподдельно острая реакция генерала. Он не знал того, что Мартынюк способен не только на один гонор, что стычка с Остроуховым на поляне, когда на глазах множества подчиненных пострадали генеральский авторитет и самолюбие Мартынюка, оставила в нем, кроме неприятного осадка, еще и другие чувства. Опытный нюх подсказал генералу, что хоть Остроухов и ершист, зато он умен и, как мало кто из подчиненных, не склонен к раболепному, покорному принятию начальственной воли, без разбора, только потому, что она начальственная, что Остроухов обладает крепким характером, знает дело и положиться на него можно вполне. Это осмотрительный, инициативный, с чувством подлинной ответственности за людей, за дело военачальник, из тех, на каких только и держатся фронты и каких становится все больше и больше, потому что горький военный опыт постепенно освобождает силу и ум людей от скованности, заставляет думать, быть иными, иначе действовать, сам выковывает новый тип командиров, без которых не достичь перелома в войне. В глубине души Мартынюк был даже рад, что во главе свежей дивизии, которую он получил в свое распоряжение, оказался именно такой человек.