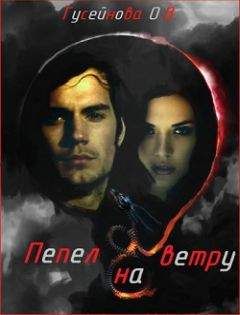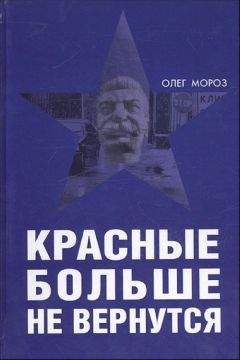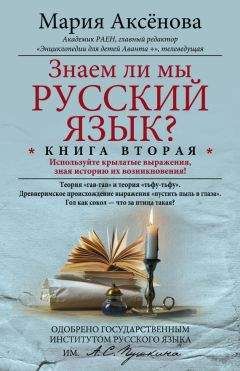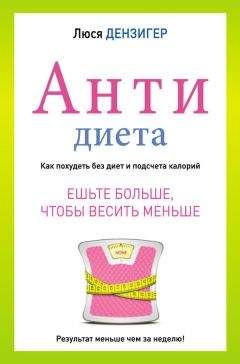Мария Костоглодова - Это было только вчера...
Принял он Марусину жертву, и в первую ночь после свидания с женой крепко уснул, веря в возможность хоть через сколько-то лет зажить с нею спокойно. Но утром пошли его мучить кошмары, терзать угрызения совести. Лютой ненавистью ненавидел он брата, еще более лютой — себя.
— Золотов!
Славка медленно опустил с нар ноги, придал лицу безмятежное выражение. Все труднее было играть роль, которую ему навязывал неписаный воровской закон.
5Модест Аверьянович внимательно следил за Золотовым. Слишком спокоен. Что это — черта характера? Натренированная воля? Глаза усталые. От однообразия допросов? Или от напряжения нервов, борьбы с собой? Чего-то он явно боится. Чего? Откровенного разговора не получается. Пойти напрямик?
— Вы знаете Монгола?
Короткая вспышка в глазах, и снова прежняя спокойная темнота.
— Нет, не знаю.
Но пальцы зажали погасшую папиросу. Пальцы насторожились, ждут.
— Из цеха ковкого чугуна сегодня приходили рабочие. Почему вы отказались с ними встретиться?
— Не терплю надгробных речей.
Губы кривит усмешка, в голосе — раздражение. Против кого? Против людей, не согласившихся верить в его преступность? Против себя?
— Сколько вам было лет, когда умерли родители?
— Девять.
— У вас был еще брат?
— Да.
— Где он?
— Тоже умер.
Смятый окурок щелчком отправляется в урну. Резкое движение, очевидно, необходимо, чтобы отвлечь себя от каких-то ненужных мыслей. От каких?
Вопрос за вопросом… Но ни одного — об ограблении ювелирного магазина, о Марусе. А Славка-то ждет их, на них готовился отвечать. Он не понимает, куда гнет начальник, ему не по себе. Неужели Монгол засыпался? Быть того не может. Монгол заколдованный. Милиция наслышана о нем, ищет, да руки коротки. Живым Монгол не дастся.
— Разрешите вопросик?
— Пожалуйста.
— Раньше начугром был некий Гуров. Его что — сняли?
— Вы хотели сказать, начальником уголовного розыска? Да, был товарищ Гуров. Его перевели на другую работу.
— Хорош был паря. Нашего брата понимал — с лету.
Человека прежде всего выдает взгляд. Нужно большое искусство, чтобы не выдать себя взглядом. Славкины глаза сейчас ненавидели. Кого?
— Рабочие просили передать: формовка деталей культиватора по новому методу позволила вдвое увеличить их выпуск.
— Н-ну?
Радость перебороть труднее. Радость, как бурный поток…
Лицо Славки покрылось красными пятнами.
— Здорово!
Не дай бог, как любил повторять Менжинский, произнести в такую минуту что-либо не к месту, подсунуть добренькую фразочку: «А в этом — твоя заслуга, Золотов!». Молчи. Смотри в посветлевшие глаза и делай выводы. Возможность увидеть настоящее лицо может не повториться. Молчи и делай выводы.
ГЛАВА ПЯТАЯ
Модест Аверьянович протер подоконники, полил цветы, заменил тяжелую скатерть неопределенного серо-зеленого цвета льняной белой, ловким движением поставил на стол тарелки, шампанское, шпроты. Он откровенно радовался тому, что проведет несколько часов с Юлей Ивановой и Игорем. Он не обманывал себя: Юля, вероятно, также готовится к встрече с ним и ждет ее, и волнуется, надо сделать все от него зависящее, чтобы ей у него было хорошо.
— Игорь, перестань изображать индейцев. Напугаешь Юлию Андреевну, она не решится позвонить.
Она позвонила.
— За мной, ягуары! — спрыгнув с дивана и потрясая самодельным копьем, еще истошнее заорал Игорь. — Впускай ее! — командирским тоном приказал он отцу.
Модест Аверьянович обвязал чалмою вокруг головы полотенце, низко кланяясь, впустил Юлию Андреевну.
— Ваш пропуск в нашу страну, — наставил на нее копье Игорь.
— Пожалуйста, — Юлия Андреевна протянула ему трамвайный билет.
— Да станет для вас дом этот самым уютным во всей Вселенной, о госпожа моя! — поднося руки Юлии к губам, произнес, поддерживая начатую сыном игру, Модест Аверьянович.
Несмотря на полумрак прихожей, он увидел, как вспыхнуло лицо Юлии. Конечно же, он не ошибся: она готовилась к встрече с ним. На ней были сиреневое крепдешиновое платье («Юлька сбросила кофту английского покроя!»), черные лодочки (в лодочках — по снегу!), на руке висела крохотная замшевая сумочка.
— Я благодарен тебе, что пришла, Юленька! Садись. Мы с Игорем умираем от голода. Сейчас будем ужинать.
— Помочь тебе? — швырнув на диван сумочку, спросила Юлия Андреевна.
— Не нужно. У меня все готово.
Выкладывая на тарелки сыр и ветчину, он наблюдал из кухни за Юлией. Он всегда ценил ее отличный характер — в меру строгий и мягкий, ее волю, ум, доброту. Она была своей, надежной, с нею можно было о чем угодно говорить, не боясь, что ты будешь непонят.
— Юленька! Иван Куликов-Красное Солнышко и Виктор Шерстобитов просили тебе нижайше кланяться.
— Ты их видел? Давно?
— Третьего дня. Имел честь быть у них на заводе. — Он поставил на стол обжаренное мясо. — Не хочется портить настроения, поэтому о них попозже. Разговор не из приятных. Не могу смириться ни с нынешним Шерстобитовым, ни с нынешним Куликовым.
— Жизнь ломала и не таких, — с откровенной печалью произнесла Юлия Андреевна.
Модест Аверьянович шумно придвинул свой стул к ее стулу.
— Ломала? Ломала, да. Но как они позволили себя изломать? Тебя жизнь не поломала? Меня не поломала? Если хочешь, она и Витьку не поломала. — Он стал откупоривать шампанское. — Вить-ку не полома-ла. А! Шут с ними. Игорь, к столу. — Он разлил по бокалам пенящееся вино. — За тебя, Юленька! За твою светлую голову.
Румянец залил щеки Юлии Андреевны.
— Модест, испорчусь!..
— Не боюсь. Ты крепкая. За тебя, Юленька!
Игорь влез на стул, прокричал:
— За прокурора Юлию Андреевну!
— Прокурор Юлия Андреевна! Не привлекайте этого хулигана к ответственности. Его седеющий отец учил его, что становиться ногами на стул неприлично, что воспитанные мальчишки не кричат, как будто их стеганули хворостиной, они говорят медленно и спокойно, и взрослых, когда те разговаривают, воспитанные мальчишки не перебивают. Хулиган много раз обещал отцу исправиться, и отец не теряет веры…
Игорь плюхнулся на сиденье, разлил вино на скатерть, надул полные, с капризным изломом губы. Эти губы — единственное, что досталось сыну от матери. Маргарита не зря говорила: «Твой сын».
Огромные часы над диваном пробили девять.
— Давай, товарищ Сущенко-младший, ужинать — и в постель.
— Хочу с вами, — развалясь на стуле, протянул Игорь.
— А не перестанем ли шутить, сын, а?
Вопрос прозвучал серьезно. Игорь подтянулся, принялся молча уплетать бутерброд.
Тускло светили лампочки бра (перешедшего к Модесту Аверьяновичу вместе с квартирой от предшественника), стучался в окна ветер.
— Спокойной ночи! — Игорь на одной ноге поскакал из комнаты. — Все знаю, папа. Иду мыть ноги.
— Хорош парняга, — улыбнулась Юлия Андреевна.
Они сидели на диване, испытывая странную неловкость. Модест Аверьянович понимал, что следует молча погладить поникшие Юлькины плечи, но почему-то говорил, говорил до нелепости ненужное:
— Представь, Юленька, обрюзгшего, с большим животом Ивана. Он — главный инженер завода. Виктор, подвижный, как ртуть, Виктор — директор того же завода. Как тебе известно, они были друзьями. Так вот, от их дружбы не осталось и воспоминания. Иван убежден, что Виктор — человек подлой души; Виктор об Иване попросту отказывается говорить. Но как-то звонит мне, просит разрешения прийти. Это было в тот день, когда ты прислала ко мне с запиской девочку Дину Долгову. О чем же держит речь Шерстобитов? Об Иване. Он выдвигает против него тяжелейшее обвинение: главный инженер Куликов разлагает молодежь завода.
— В чем это выражается?
— Якобы Иван учит молодых: «Не принимайте готовых формул, ищите истину, а нашли — отстаивайте перед любым авторитетом, не щадя авторитет».
— И все? — Юлия Андреевна рассмеялась.
Заложив руку за спину, Модест Аверьянович зашагал по комнате. И как в прежние далекие, но ни на час не забытые годы Юлия Андреевна, прикрыв глаза, попросила:
— Модя! Не мельтеши перед глазами.
Мужская память не столь остра на детали, как женская. Модест Аверьянович не вспомнил, что Юлия ему частенько так говаривала. Остановил тон, каким были произнесены обычные слова. Он сел напротив Юлии:
— Юленька, а не совершить ли нам оздоровительное мероприятие? Пройдемся.
— Да. Пойдем.
Ей не очень хотелось выходить на снег в туфлях, подставлять холодному ветру лицо, она была мерзлячкой.
— Условие: ты снимаешь свои лодочки и влезаешь в мои сапоги, — сказал, подавая ей шубку, Модест.
— Хороший видик у меня будет!
— Наплевать. Во всех ты, душенька, нарядах хороша.