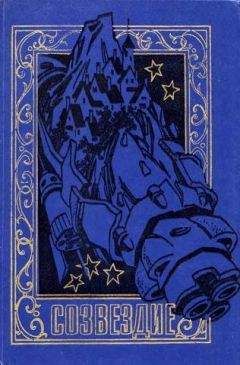Александр Бологов - Один день солнца (сборник)
Дед повел их в дом — в большую, пустого вида комнату со столом в углу, опоясанным скамейками. Одна из пристенных скамеек с высокой резной спинкой называлась диваном.
— А это кто будеть? — спросил он, указывая на Вовку.
Пока Ксения рассказывала про Вовкиного деда, он поглядывал на обоих ее сопровождающих, бормотал в бороду:
— Вот тебе раз… Вот тебе раз…
Из лесу вернулась Дуся, ходила с дочерьми-подростками за хворостом. Девчонки — погодки чуть постарше ребят — разделись, стали раскладывать на лежанке мокрую обувь и варежки.
— Вон след-то, — повернула к потолку весноватое лицо старшая, обращаясь к Костьке.
— Герой с дырой, — построжела, вспомнив старое, мать, тоже поглядев вверх.
В другой раз можно было и обидеться, но Костька вздохнул и поднял глаза туда же и словно уловил слабый запах дымного заряда, остро поразивший его в этой комнате в начале лета…
О войне тогда никто не говорил и не думал, хотя до нее и оставалось уже какая-то неделя или чуть больше. Ксения отправила сына к своим двоюродным — на молоко да крепкие сельские харчи, сама рассчитывала приехать на какой-нибудь из выходных — дочку показать, на погост сходить к родителям. Свой дом, бывший фоминский, когда умерла мать — ненадолго пережила своего неугомонного мужа, — они с Николаем продали, пришла пора переезжать в город и там обзаводиться хозяйством.
В один день сидели они втроем — Костька и Дусины девчата — в хате одни, заигрывали друг с другом, выведывая городские и деревенские порядки на этот счет. Костька, один среди девиц, выкаблучивал что мог — смешил родственниц до упаду. На стене у дверей висело ружье — Костька даже удивился ему, когда увидел. Снял, приложил, нелегкое, к плечу, стал целиться в сестер, больше в Татьяну, почти ровесницу. Обе они, — тоже, однако, забавляясь, — уклонялись от ствола, махали руками: «Смотри, раз в году и незаряженное стреляет!» Умаявшись водить дулом, Костька поднял его к потолку, нашел там сучок на срезе доски и нажал пальцем давно стронутую собачку.
Гром над ухом не рвется так, как бабахнул в хате выстрел. От удара онемело плечо, а на пальцах до быстрой крови сбило кожу. Сестры, сшибая скамейки, с отчаянным криком бросились вон, а Костька стоял и глотал густой сладкий дым, в секунду заполнивший горницу. Уши словно запечатало горячими пробками…
Он убежал из дому и из деревни в чем был, только бы не встретиться с дядькой или теткой, дед Кирилл казался менее страшным. Чуть ли не полдня просидел в конопле — шелушил ее, незрелую, ел с горсти, набрал в карманы, — а под вечер вышел по проселку к шоссе, чтобы пешком идти до города. На развилке его поджидал дядя Ваня, Дусин муж.
— Слава богу, хоть девок не убил, — сказал он без видимого зла, но за руку схватил крепко.
Он и сам считал себя виноватым, что оставил заряженную «тулку» на виду. Накануне в деревне объявилась бешеная собака, убить ее не удалось. Пока кто-то из имевших ружья набивал патроны да выскакивал на улицу, по которой молча, теряя пену с языка, пробежала незнакомая дворняга, ее и след простыл. Но она могла появиться снова, и Иван — не последний в Укромах охотник — приготовил для нее картечь.
— А крышу как разворотил, — добавила Лизка. — Я тебе что говорила, опусти?..
— Будя тебе! — оборвал ее появившийся из сеней дед, сообразив, о чем идет разговор. — Бога моли и не вспоминай ничего. Ему уже есть наука.
«Это да», — ежась от воспоминаний, думал Костька, разглядывая законопаченную дырку на месте срезанного сучка возле матицы и вроде бы снова слыша пряный дух горелого пороха. Он мельком взглянул на Татьяну — та следила за ним и смотрела совсем не зло, а скорее — наоборот, так, что он даже чуточку растерялся и поторопился отвернуться.
За столом, который быстро — порешили, что приспел обед, — собрала хозяйка, Ксения неожиданно залилась в голос, трогая губами, прижимая к лицу свой кусок хлеба, которым, как и всех остальных, наделила ее невестка. Хлеб был с отрубями и викой, с плотным оскомом у нижней корки, но это был хлеб, хотелось держать и держать его во рту, без конца, ощущая языком сладкую мякоть.
Картошку с квасом ели из общей миски, городским уступали черед: дед стукал ложкой по краю — давайте, хлебайте, мол, хлебайте.
Потом женщины отправились в соседнюю деревню менять вещи, что принесла с собою Ксения. Собирала ее Нюрочка, чего только не набрала: две рубахи мужнины, витые свечи с венчального образа, то есть с иконы, чайник заварной с птицами на боках — по виду старинный, прошлого времени, ножни свои, которыми давно ли подругу обкорнала, сковородку, пяльцы, два стекла семилинейных на лампу — и это еще не все, была и мелочь всякая. Расчет был и на пробу: что выгоднее пойдет. Попросила, что нашла, поменять и Лина Кофанова, совсем потерявшая силу со своим босоногим колхозом. Ксения взяла, конечно. Своего у нее, можно сказать, ничего и не было, кроме голых стен с линялыми шпалерами.
Ребят дед Кирилл увел в кузню. Она стояла у вытоптанной скотом прогалины возле пруда, на котором летом Костька не раз видел стадо. Коровы заходили в пруд, пили, отдуваясь, мутную воду и подолгу стояли в ней, отмахиваясь хвостами от оводов и слепней. Некоторые спустя какое-то время выходили на пористый, сплошь измененный копытами засохший берег и тут же ложились, вблизи воды, не переставая махать метелками хвостов.
Теперь все тут выглядело по-иному. От дороги к кузне вела едва промятая в сухом снегу тропка; снег присыпал и кособокую дверь, он даже лег холмиком у входа на полу кузни. В ней было тихо и холодно, едва слышен был — словно доходил издалека — слабый дух гнили и ржавчины. Летом во время работы, помнил Костька, — густой чад от горелого угля и каленого железа щекотал нос, отбивая все иные запахи деревни.
Дед сначала постоял — и ребята стояли, — поогляделся молча, потом развязал принесенный из дому мешок, вынул из него инструменты, нисколько сухих палок.
— Запалим попробуем, — сказал он и стал расчищать покрытый пылью и окалиной горн. Потом передал огрызок метлы Костьке — Пошаркай тут, пошаркай…
Костька обмел чурбак и наковальню, проскреб пол вокруг кирпичных стенок печи. Дед Кирилл расщепил палки, сложил щепки над фурмой игрушечным срубом, обложил его кусками угля.
— Ну, с богом, — оглядевшись, словно желая убедиться, что вся кузня готова принять огонь, сказал он и аккуратно, в горсти, зажег спичку. В кармане у него лежало кресало, которым он стал пользоваться сразу же, как только приобрел в сельпо последние коробки спичек, но вздувать его он не стал — решил получить огонь поскорее, одним моментом. Так и вышло: пламя быстро пробилось вверх, запрыгало ломкими язычками над кучкою угля.
Немного погодя он повернулся к ребятам.
— Теперь дутье, — сказал хрипловато и, как знакомое дело, кивнул Костьке на рычаг мехов. — Сперва чуть-чуть…
Вовка стоял как чужой, но думал, что качать он смог бы не хуже, если тут нужна сила, это и Костька мог бы подтвердить, если друг…
— А ему можно покачать? — громко, чтобы перекрыть гудение в горне, спросил Костька у деда.
— Пущай поглядить, всем работа найдется, — ответил тот из угла, где перебирал какой-то хлам. — А хочить, пущай и покачаить…
Дед Кирилл пришел в кузню не только затем, чтобы подержать в руках клещи да ручник и подышать привычной гарью. Он пришел ковать ручки для мельниц и крупорушек, которые по старой памяти мог бы ладить для продажи. Штука эта была нехитрая, а для таких рук, какими судьба наградила его, умельца-кузнеца, и вовсе безделица, вроде детской игрушки; дело упиралось в материал. Вместо белой жести он проверил обычную кровельную. На пробу продрал до блеска найденный кусок ее крупным песком. Однако насечка на вырезке получилась рыхлой — старый истонченный лист был сырым и слабым. На первую крупорушку — а сделай насечку погуще, чуть обтяни обод, вот тебе и мельница — пришлось пустить худую, текущую по швам колодезную цибарку, а вместо нее приспособить старую бадейку, отнести ее на общий с соседом колодец. Рукоятка для кручения наружного обода в плахе должна была быть тяжелой и прочной, то есть чего лучше как кованой.
Все так. И все же главным чувством, захватившим деда Кирилла при первой мысли о кузне, было тайное движение души его к огню, к упорному гуду, который вдруг, совершенно неожиданно, в один день и час оборвался, как обрывается живой голос с пропажей человека. Было такое, что, идя мимо кузни, он прислушивался — безотчетно, забыв про себя и про все, не дыхнет ли горно, не звякнет ли там какая железка…
Сунув в огонь какой-то шкворень, дед кинул поверх углей горсть снегу, примял клещами потемневшую корку.
— Будя пока, — махнул он Вовке и тернул рукавицей по наковальне, готовя место. — А ты не забыл рисовать? — повернулся он к Костьке.