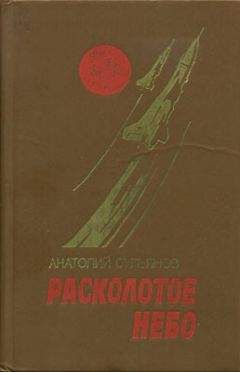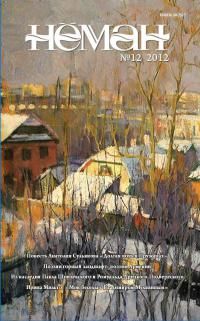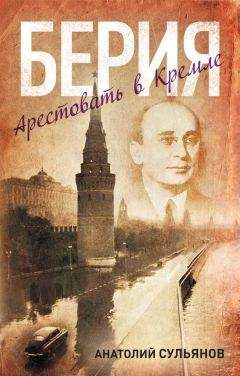Анатолий Сульянов - Расколотое небо
Но кроме поэзии в авиации есть и проза.
В ночь перед Октябрьскими праздниками эскадрилью подняли по тревоге и приказали надеть комбинезоны. Васеев едва растолкал Кочкина: Николай поздно вернулся с танцев, потом долго писал ответное письмо Наде.
Подполковник Фурса стоял в темном углу и молча наблюдал, как при свете керосиновой лампы сонные курсанты, словно телята, натыкались друг на друга, сбивались в кучу, толкались, пока не включили свет и не подали команду «Смирно!». Рядом с ним, нахохлившись, словно старый воробей, стоял Зверев и зевал, обнажая белые зубы и большой розовый язык. От предложения Фурсы возглавить группу курсантов на разгрузке строительного леса и угля Зверев отказался, сославшись на болезнь жены; Фурса настаивать не стал, махнул рукой и приказал вызвать двух инструкторов: Потапенко и Хохрякова из второго звена.
На улице — проливной дождь и холодный ноябрьский ветер. В темноте долго усаживались в кузов ЗИЛа; поднимали воротники шинелей, глубже надвигали шапки, вполголоса ругали железнодорожников («Другого дня не нашлось — под самые Октябрьские праздники!»), ворчали на промозглую погоду. Всем хотелось спать.
Машина тронулась, когда оба инструктора поднялись в кузов; вокруг Потапенко собралась вся группа, ближе других сидели Васеев, Кочкин и Сторожев. Настроение — хуже некуда. Потапенко принялся рассказывать смешные истории из авиационной жизни, многие слушали неохотно, отворачивались, уткнувшись носами в спину соседа. Но постепенно слушающих становилось больше. Подъезжая к разгрузочной площадке, Фурса услышал из кузова дружный смех. «Поднялось настроение у ребят, — подумал комэск. — Молодец Потапенко! Таких вот надо выдвигать по службе — они и настроение людям поднять могут, и авторитетом пользуются. Жаль расставаться с Петром Максимовичем, а придется — опять рапорт написал. В школу испытателей рвется. А курсантов кто учить будет? Сердцем понимаю, что надо отпустить, а ребят на кого оставить?..»
Всех разделили на две группы. Потапенко с курсантами разгружал бревна. Он первым взобрался на верх полувагона, расставил и проинструктировал ребят и взялся за огромное бревно. К нему подскочили курсанты, приподняли кряж, сунули под ствол две жердины. Раз-два, взяли! Ни с места. Потапенко сам взял жердину и, кивнув курсантам, навалился на нее изо всех сил — бревно не двинулось. Кто-то осветил фонариком срез кряжа, прочитал сделанную углем надпись и расхохотался.
— Посмотрите, что написано!
— Читай!
Ночную темноту разорвал взрыв хохота; смеялся и Потапенко находчивости и юмору тех, кто грузил огромное, считай, в два обхвата, бревно.
Пришлось взять еще две жердины. Наконец стронули бревно с места, подкатили к краю полувагона, перевалили на опоры спуска и под радостные возгласы столкнули вниз. За ним второе, третье…
Потапенко расстегнул куртку, вытер лицо и осмотрел курсантов; одни тяжело дышали, широко открывая рты, другие, облокотившись на борт полувагона, безучастно смотрели в темноту. Он похвалил ребят и бодро вскочил на очередной вагон.
Усилился ветер, дождь сек лица и руки, стекал за воротник на шею, холодил спины. В темноте зловеще чернел последний полувагон, а у курсантов почти не оставалось сил; некоторые, не выдержав нагрузки, опустились на спекшийся шлак и отрешенно смотрели, как Потапенко взбирался по металлическим скобам наверх.
Поднимаясь, Потапенко оглянулся, и его охватило неприятное чувство. Он больше всего боялся, что его курсанты не пойдут за ним. Они должны подняться, чего бы это ни стоило, иначе зря отдавал он им свои знания, зря учил их. Страх за близких ему людей расслабил Петра Максимовича, он едва добрался до верха полувагона. «Нет, сам я не отступлю. Сам, если потребуется, буду сгружать до последней лесины, сдохну здесь, но выгружу. А они… Они-то как будут потом в глаза смотреть? Как мне с ними работать, если не поднимутся сейчас?!»
Курсанты сидели, словно окаменев. Потапенко почувствовал себя виноватым. «Что-то я, наверно, сделал не так. Не разглядел. Иначе встали бы, не дожидаясь приказа. Приказать — не фокус. Мне важно другое…»
Слезились глаза, подрагивали пальцы, стучало в висках. Он снова посмотрел вниз и почувствовал себя одиноким, как в ту ночь, когда после отказа управления спускался на парашюте над зловеще-темной, притихшей пустыней. Ни огонька, ни селения, ни дороги, только сыпучий песок, из которого едва вытащил ноги. Натерпелся тогда страху, намучился без воды… Вспомнил — и в горле пересохло. Открыл рот и начал жадно хватать капли дождя. Затем сел на скользкое от дождя бревно, сцепив руки, и опустил на грудь голову.
Очнулся Петр Максимович от стука подошв о железные скобы вагона. Медленно открыл глаза. Перед ним стоял Васеев, по скобам поднимались Сторожев и Кочкин. Он смотрел на них, испытывая чувство радости и облегчения. Все правильно, ребята. Я верил в вас. Я знал, что вы не подведете.
Геннадий едва держался на ногах от усталости. Болели спина и ноги, хотелось свалиться на теплый еще шлак и уснуть. Хоть на несколько минут, хотя бы присесть или просто опереться на что-то. Он не чувствовал ни холода, ни пронизывающего ветра, ни стекавших вдоль тела капель дождя; он видел рядом с собой Потапенко и знал, что не отступит, а если отступит — никогда себе этого не простит.
Никто не произнес ни слова. Вчетвером они начали сбрасывать бревна вниз, подолгу отдыхая после каждого поднятого ствола; испарина покрыла их лица и, перемешанная с дождем, слепила. Ребята внизу откатывали бревна дальше.
— Ребята, — сдавленным пересохшим голосом неожиданно прохрипел Потапенко, выпрямившись во весь рост. — Посмотрите на восток.
Курсанты и на полувагоне, и внизу одновременно повернули головы. Из-под темного небосвода виднелась узкая светло-розовая полоска; она ширилась, словно приподнимала тяжелый ночной небесный полог, свет становился гуще, набирал силу, прорывался сквозь бетонную толщу темноты и облаков.
— День настает. И какой день! 7 Ноября! — Петр Максимович потер негнущиеся руки. — Начнем штурм. Последний! Тут всего десятка два осталось. — Взял жердину, подошел к бревну, нагнулся. — Раз-два! Взяли!
Бревно легло на направляющие и скользнуло вниз. Потапенко напрягся, перехватил жердину поудобнее и двинул очередную лесину.
Построение было кратким. Фурса, промокший до нитки, измученный и уставший, опустил воротник, сдвинул козырек фуражки, приоткрыв лицо, и глухо произнес:
— Всем объявляю благодарность!
Строй колыхнулся, и над станционной утренней тишиной громко пронеслось:
— Служим Советскому Союзу!
Потапенко подошел к командиру эскадрильи, что-то сказал ему. Фурса согласно кивнул.
— Васеев, Сторожев, Кочкин — за мной!
Курсанты недоуменно переглянулись, вышли из строя и двинулись вслед за Потапенко. Вышли на улицу, свернули в переулок и долго шли в густом тумане.
Остановились возле крытого железом дома.
— Куда, товарищ капитан? — удивленно спросил Кочкин.
— Ко мне. Пить чай. Сегодня же праздник! — Потапенко открыл дверь, и курсанты один за другим вошли в дом через застекленную широкую террасу.
Их встретила сонная, в наброшенном на плечи халате жена Потапенко. Недоуменно посмотрела на мокрых, грязных ребят, на такого же мокрого и грязного мужа.
— Работу закончили. Намерзлись, устали. Готовь, Лиза, чай. Угощай ребят праздничным пирогом — теща не зря старалась.
Когда сели за стол, Петр Максимович не без гордости в голосе сказал Лизе и теще, кивнув на притихших ребят:
— Хорошо хлопцы поработали! — И подумал о трудной ночи. Себя победили. Дружнее и мужественнее стали. Теперь с каждым можно пойти в разведку, а подучатся — и на боевое задание, как в Отечественную. Надежные ведомые, наверняка прикроют в бою. Теперь — наверняка. Теперь в каждом уверен…
И кто знает, думал Потапенко, может, именно этой ночью в каждом родился гражданин, с теми нравственными качествами, которые издревле в народе называют совестью. И все в нем светилось радостью и чувством исполненного перед собственной совестью долга.
7
После первой встречи на стадионе Кочкин каждое воскресенье брал увольнительную и спешил на окраину станицы, где жила Надя. Он подходил к дому, ласкал мохнатого, чуть повизгивающего, доверчивого пса, помогал надиной тетке Марии Матвеевне по хозяйству. Когда Николай кончал работу, тетка усаживала его за стол и ставила полюбившиеся ему вареники. Николай не стеснялся: по курсантскому пайку вареников не готовили, больше нажимали на каши да на картошку, а тут — вареники с вишней или со свежим творогом, со сметаной. Вкуснятина!
Надя сидела рядом, вязала или рассеянно листала книгу.
Ее родители были геологами. В большой городской квартире Надя часто оставалась одна, отец и мать надолго исчезали и присылали телеграммы то из Сибири, то из Казахстана. Что они там искали, нефть или уголь, Надю не интересовало. Главное, чтобы аккуратно присылали деньги, а на деньги папа с мамой не скупились. Одной быть не хотелось. Подружки, обрадовавшись, что есть где собраться, не заставили себя долго ждать. Покупали вино, делали винегрет, включали магнитофон — веселились.