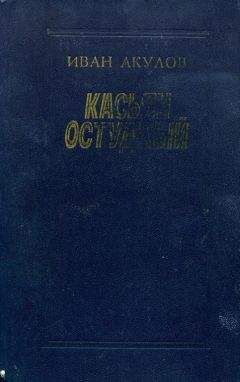Иван Акулов - Крещение
— Для себя берег, да разве вы додумаетесь положить, если я откину копыта? — упрекал он своих товарищей. — Пехота. Даже толку не хватило схоронить по порядку. Ну что вы за народ!
— Ты что расслюнявился, как теща? — остановил ворчание сутулого Недокур. — Похоронен моряк что надо, в земельке, среди степи, а то кормил бы рыбешку где-нибудь на дне.
— А зимой что, зимой не враз закопаешь, — поддержал Абалкин и тут же рассудил: — А за такое отношение к погибшему товарищу благодарность бы тебе надо. Слышите, товарищ младший лейтенант? Мы, пехота, верно, похвалиться этим не можем. Как стадо ненаученное.
Сутулый положил бескозырку на холмик, расправил, вминая в землю ленты, и скомандовал:
— В ружье!
Через минуту бойцы, зарядив оружие и обступив могилу, трижды пальнули в вечернее небо. После второго выстрела из бурьяна невдалеке выбросились два коростеля, заметались над тем местом, где паровались, потом один, лихорадочно махая крыльями, завился вверх, а другой потянул над самой землей, готовый вот-вот нырнуть в бурьян, но не нырял, а все летел и летел, пока не превратился в точку и не растаял.
У межи взяли свои вещи и вышли на дорогу. Уходя от места привала, долго оглядывались, жалея, что не видно могилы, в которой похоронен безвестный моряк, ставший вдруг близким, будто до привала он шел вместе со всеми и вот остался… От этого внезапного чувства потери вся степь каждому сделалась родной и печальной. И каждый теперь знал, что будет помнить всегда эту затерянную одинокую могилу, каких тысячи и миллионы, но эта особая, незаметная и покойная на просторе, под высоким небом.
— Пойду обратно, насобираю цветов и положу их, — ободренная своим намерением, со странной улыбкой сказала Тонька Охватову и после этого за всю дорогу не обронила больше ни слова.
Деревенька Частиха показалась внезапно, потому что ее хаты, сады и тополя были собраны в тесную кучу и спрятаны за высоким увалом. Перед деревней, справа от дороги, раскинулся пруд, обросший старыми дуплистыми ивами, по темной недвижной воде угадывалась его большая глубина.
Невдалеке перед солдатами дорогу перешла босоногая молодая женщина с крутым коромыслом на плечах; на коромысле весело позванивали пустые ведра; рядом, держась за подол ее сборчатой юбки, бежала девочка, с интересом и страхом глядя на подходивших солдат; неприбранные волосенки мешали ей смотреть, и девочка крутила головой, не вынимая изо рта обсосанных пальцев свободной руки. У земляных ступенек к воде женщина подтолкнула девочку вперед себя и следом за нею стала медленно спускаться на плотик, который лежал на тележных передках. С плотика она размашисто зачерпнула полные ведра, залила доски и свои ноги, а солдаты прикованно глядели на ее ноги, спину и плечи, на девочку и мокрые ведра, на воду, побежавшую кругами от берега, и обрадовались всему этому, не зная, что для них дороже сейчас: или встреча с женщиной, или вода, о которой они до самого последнего момента неотвязно думали.
Охватов остановил солдат, и они, не отводя глаз от женщины, стали ждать, когда она поднимется наверх. Она же не торопилась, опять пустив перед собою девочку. Коромысло поскрипывало, а она, легко положив на него свои руки, очень хотела, чтоб не качались ведра и не плескалась через край вода.
— К счастью — с полными ведрами, — объявил Абалкин. — Давай, дорогуша…
А что «давай», Абалкин и сам не знал, скаля осмоленные куревом зубы.
— Уж вы погодите, я пройду перед вами.
— Это уж само собой.
— А может, напоила бы.
— Так что ж, — согласилась женщина и хотела поставить ведра, но солдаты подхватили их, сняли с коромысла. Она расправила плечи и с молодым румянцем в лице неробко оглядела солдат.
— У вас тут все такие лебедушки?
— Все поуходили в тыл, а у меня дочурка вот хворала.
— К тебе, поди, с ночевкой можно?
— Дверь отперта, да только вашего брата, пожалуй, что на вешалке не висят. Сама в борозде сплю.
— А позвольте, какая грядка по счету?
— Скажи так-то, а вы возьмете да все заявитесь. Что я с вами-то стану делать? — сказав это, она засмущалась, начала искать вокруг себя девочку и вдруг опять открыто заулыбалась, увидев ее на руках у сутулого. Рукосуев почти спрятал девочку в своих больших и бережных ладонях, а она и пугливо, и радостно, и вопросительно глядела на мать, готовая и засмеяться, и заплакать.
— Гляди-к, устроилась. Нейдешь ведь к чужим-то, а тут пошла. — Мать обращалась к дочери, а смотрела на сутулого. «Ты вот самый-то ласковый и есть! — говорили ее глаза. — Кто о чем, а этот к дитю».
Ведра переходили из рук в руки, а некоторые по второму и даже третьему разу припадали к воде и все не могли залить распаленного нутра.
— Вода-то у нас студеная, не опейтесь.
— Дома давно бы сдох, — отпыхивался Абалкин, вытирая рукавом мокрые губы н залитую гимнастерку. — Запоганили тебе ведра-то. Все, что ли?
Абалкин схватил ведра, выплеснул из них остатки воды и побежал по ступенькам вниз.
— Да я бы сама… Право, какие вы. Жалко-то вас! Всех бы, кажется, приютила, приголубила.
— Ну их к черту, всех-то. Меня лучше.
— Да остальные чем же хуже?
— А во, глянь: просил кожи на две рожи, а напялил на одну.
Все засмеялись, а Тонька стояла в стороне, забытая, чужая, и вспоминала, бывало ли с нею когда, чтобы солдатня возле нее вот так же была весела, добра и внимательна. И могла ли бы она сказать им, что всех бы их приютила и приласкала? Да идите вы!.. Тонька пристально разглядывала босоногую женщину в ситцевой линялой кофтенке, с прибранными под гребенку волосами, понимала ее обаяние, заключенное в этом простеньком наряде, в манере ее неробко говорить и вместе с тем совестливо смущаться. Какая-то тесная и давняя связь вдруг проглянула между женщиной и солдатами. Но связи никакой не было, она всего лишь показалась Тоньке, и Тонька враз возненавидела и женщину, и солдат, и себя, насквозь просоленную потом. Однако, увидев, как сутулый боец Рукосуев достал из своего мешка обмятую пачку киселя и чересчур долго устраивал ее в робких ручонках девочки, Тонька улыбнулась горькой завистливой улыбкой.
Приловчив коромысло с ведрами на одном плече, женщина собралась было переходить дорогу и увидела в сторонке Тоньку.
— Да с вами и девушка?
— Есть зубы — дают и кость.
— Что ж вы ее-то не напоили?
— Она не из робких…
Тонька и раньше слышала грубый солдатский юмор об армейских девушках. Но злые шутки мало трогали Тоньку, потому что она знала и то, что завтра в бою эти шутники будут целовать ей руки, будут плакать и молить ее о помощи, иные от боли и потерянной крови сделаются как дети. И страдания каждого сделаются ее страданиями, она забудет о своих обидах, о своем страхе, о смерти, ею будет руководить уже какая-то высшая идея братства, когда она самоотверженно полюбит всех и вдруг сама поверит, что способна всем помочь. В спокойной обстановке Тонька не замечала у себя ни малейшего желания жертвовать собою ради кого-либо. Она только тем и была занята, что делила беспрерывно окружающих ее солдат на симпатичных и несимпатичных, все время к кому-то примеривалась, кого-то искала, ждала… Лишь рядом с Охватовым у нее исчезала эта постоянная потребность делить людей, и хотелось быть с ним откровенной, чтобы иметь с пим общую тайну. И вот сегодня произошел доверительный разговор, и то, что медленно накапливалось и вызревало в душе Тоньки, Охватов высказал ей в совершенно определенной форме. «Конечно, — думала остаток дороги Тонька, идя следом за разведчиками и все отставая и отставая от них. — Конечно, война войной, а жизнь жизнью. Я же не могу так сказать: всех бы приласкала, всех приголубила. А она сказала, хоть и постарше меня всего года на три. Сказала, потому что мать. А я что? Война кончится, и что я?»
На развилке дорог солдаты повернули по главной улице, а Тонька пошла прямо и скоро опять вышла в степь, поднялась на увал и легла в придорожный бурьян, пропитанный теплой пылью и молодой горечью еще сизой, неперестоявшей полыни.
VII
В штабе дивизии проходило какое-то совещание, и никто из командиров не встретил разведчиков. Зато их досыта накормили из штабной кухни горошницей, а посыльный отвел к приготовленному ночлегу, в пустовавший сарай в яблоневом саду, недалеко от штабной хаты. Хозяйка сарая, снимая замок с ветхой двери, озабоченно вздыхала и спрашивала посыльного:
— Эти самые, что ли?
— Эти, эти.
— Царица небесная, Мария Криворукая, да ведь они всю ноченьку будут табак жечь, а я смотри, чтоб не заронили.