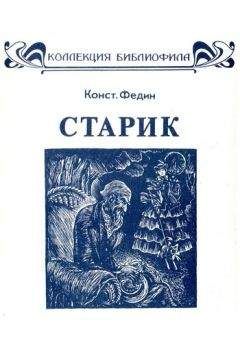Александр Лебеденко - Тяжелый дивизион
В письмах нет ни слова о том, как она живет теперь, о планах на будущее… Значит, она отгораживает его и их отношения от всего, только что вошедшего в ее жизнь.
Андрей ходил по комнате, улыбался и сейчас же тревожно шептал про себя: «Что-то будет, что-то будет».
Однажды вечером, когда Мигулин уже принес дымящуюся чашку какао — единственную роскошь, сохранившуюся в растерзанных, объеденных молью войны румынских городках, и коптилка встала над страницами книги, за окном на шоссе послышался шум коляски. Андрей прислушался. Коляска стала. Над рокотом солдатских баритонов вдруг поднялся звуковым острием неожиданный в этом месте раздраженный визг женщины.
Мигулин выскочил за дверь, на которую уже была наброшена тяжелая молдавская щеколда. Лень было натягивать сапоги вместо теплых меховых туфель. Книга осталась открытой, и страницы сами пошли как на ветру. Кто бы это мог быть? Несомненно, кто-то чужой. Ведь перед этим отчетливо были слышны колеса экипажа, не военной фурманки, а именно городского экипажа.
Дверь распахнулась, и в наплывающем свете еще не видной свечи Мигулина показалась громоздкая фигура сестры милосердия. Она улыбалась всем широким лицом чему-то своему. Комната, стены, подушки, земляной пол, Андрей в туфлях — это все, по-видимому, было для нее декорациями сегодняшнего дня, которые сменялись, двигались, играли светом и тьмой для ее увеселения. И на порог она вступила, не сгибаясь, как будто это была только условная черта, а не препятствие, на румынский манер, в целый фут высотою.
Ее блуждающие глаза беспокоили, улыбка успокаивала. Андрей посмотрел на свои ноги в туфлях и с укором перевел глаза на Мигулина. Мигулин вел сестру под руку, действуя издали, как ведут архиерея. Рыженькие усики его подрагивали, как на ветерке. Сестра протянула большую, неженственную руку и сказала:
— Здравствуйте. У вас так тепло, светло и не дует. А я измерзлась, как цуцик. — Она зашевелила своими массивными плечами, должно быть изображая дрожь.
— Садитесь, сестра, обогрейтесь, — предложил Андрей. — Максимыч, дай еще чашку какао. Раздевайтесь. Хотите горячего?
— Горячего? Ух, охота горячего! — потирала желтые рабочие ладони сестра. Она небрежно бросила в сторону холодную плюшевую шубку и осталась в сатиновом коричневом платье форменного покроя. — Ой, тепло здесь как! Как я измерзлась… Посмотрите, руки как ледяные. — Она взяла в свои плоские пальцы руку Андрея.
— Вы откуда едете, сестра?
— Из штаба корпуса. Просила подлецов устроить с ночевкой — не захотели. — Лицо ее мгновенно приняло по-бабьи злое, скверное выражение. — Ну, черт с ними. Замерзла я. Ну, а теперь все в порядке. Милый вы какой, — погладила она руку Андрея, — славный такой…
Эта массивная женщина явно посягала на мужские права Андрея. Он пытался убрать свою руку. Но сестра еще ближе придвинулась к нему, и от нее понесло густым перегаром.
Андрей встал и заходил по комнате.
Но сестра также вскочила и качающейся походкой направилась к нему. Андрей уклонился от встречи. Широко расставив руки, она плыла за ним, как в хороводе.
— Сядьте, — сказал Андрей и повел ее к скамье. Она широким бабьим телом прижалась к нему, вздыхая и пьянея глазами.
— С тобой останусь. Холодно там. Я здесь, на лавке… не помешаю, миленький, — постучала она ребром ладони по колючему коврику.
— Куда вам нужно ехать, сестра? — грубо спросил ее Андрей.
— Ой, еще двенадцать километров… За перевалом там ветер. А здесь тепло, — лепетала она. — Пригрею тебя, миленький.
— Дам вам тулуп укутаться. Поезжайте! — продолжал Андрей.
— Миленький, — встала опять сестра, — чего ты так стесняешься? Я тебя уж поцелую. Гляди, миленький. — Она быстро расстегнула корсаж. — Поцелую, миленький!
— Вон, — закричал Андрей. — Мигулин, убери эту… Привел — и убери.
Мигулин растерянно смотрел то на сестру, то на Андрея. Он начинал ненавидеть эту толстуху, которая могла поссорить его с офицером.
— Ну и черт с тобой, — вдруг озверела сестра. — Только холодно, а то бы я вообще плевала на тебя.
Тоже мужчина! — сочно сплюнула она и отвернулась презрительно.
Мигулин вернулся, извиняющийся всем лицом, улыбающийся, как ребенок, который напроказил нечаянно.
— Велела сказать вам, что вы все-таки молодец и ей понравились.
Андрей уже смеялся.
— А коляска у нее шикарная. А кучер ругался и матом ее крыл. Думал — отсюда воротится, а дальше уже вы ее доставите.
О сестре говорили два дня. Неожиданно и фельдфебелю, и Мигулину стал известен ее адрес, деревня, в которой она стояла, и номер госпиталя…
Через неделю появился какой-то инспектор из армии. Он осмотрел склады, нашел, что держать динамит в таком месте — преступление. Начал было кричать, но Андрей встретил все его тирады с таким безразличием, что он угас и стал перечислять меры предосторожности, вроде того, что на территории склада нельзя курить и надо подметать дорожки, по которым местами рассыпан зернистый порох и валяются ленточки артиллерийского.
А в глубине долины уже подготовлялся поход весны. Лопнули ледяные корочки на ручьях и потоках, вершинный снег водопадами холодной воды и шумными лавинами ринулся книзу, освобождая борта лесистых гор и лысые скаты холмов для травы, винограда и цветов.
В этот вечер Габрилович не пришел вместе с фельдфебелем. Андрей был не в духе — ординарец, посланный в дивизион за книгами, газетами и почтой, не вернулся. Все книги были перечитаны, предстоял незаполненный долгий вечер в томлении и мыслях вообще.
Габрилович постучал в дверь, когда Андрей уже готовился раздеваться. Он переступил порог, не дождавшись приглашения, — впрочем, сейчас же извинился и даже подался при этом к двери.
— Может, поздно? Вы меня простите, — и опять, не дождавшись ответа, сказал: — Я хочу вам такое рассказать, что и не знаю, как рассказывать. И, может быть, я не имею права…
Его волнение побеждало его робость. Оно было разлито во всех чертах его лица и пробудило в Андрее острое любопытство.
«Что случилось? Несчастье какое-нибудь? Только несчастье может так взволновать человека».
— Не знаю, — растерялся Габрилович и сейчас же сам взорвал свою нерешительность. — Но только это такое…
— В чем же дело? Садитесь и рассказывайте.
Габрилович поднял и разжал влажный красный кулак. В нем были клочки бумаги, во всех направлениях исписанные торопливыми буквами.
— Я вам прочитаю… Это из армии в штаб корпуса. Только вы, ради бога, не говорите никому, что я записывал телефонограмму. Это строжайше запрещено.
— Читайте, — просто сказал Андрей.
Сбиваясь в словах, путаясь и волнуясь, спеша, как будто эта бумажка вот-вот ускользнет и станет недосягаемой взору, Габрилович вычитывал фразы, которые здесь, на перевале румынских гор, были подобны колоколу в пургу.
Слова эти разодрали тьму за окном, сдвинули горы. Стена упала, и вещи растаяли в изменившихся пространствах. Все было неясно и непонятно. Ни одной реальной картины не осталось в воображении. В тумане сидел развенчанный самодержец в порфире и писал слова, которые ненависть миллионов, пистолет Каракозова, бомбы Гриневицкого и Перовской не могли вырвать у российского трона.
— Вы что-нибудь понимаете? — спросил Габрилович и, не ожидая ответа, стал читать письмо Михаила.
— И Михаил?! — воскликнул Андрей. — Значит, царя нет!
— Я не все успел записать, — извинялся он. — Но я помню смысл… Нет больше Романовых, — крикнул он внезапно, забыв свою робость, словно эти еще раз прочтенные вслух строки только теперь укрепили в нем веру в эту весть, скользнувшую по проводу от штаба армии к штабу корпуса.
Романовых больше не было.
В сознании Андрея скапливалось электричество, которое требовало разряда. Хорошо, если бы кругом были люди, много людей, чтобы можно было сверху крикнуть им эту новость, чтобы лилось волнение от этих замечательных слов, этот трепет перед будущим, чтобы рвущийся из горла крик можно было швырнуть в океан таких же согласных криков.
С расстегнутым воротом, в туфлях Андрей прыгал по комнате, держа за плечи Габриловича, который то стеснительно упирался, то сам вдруг выбрасывал смешные, неловкие коленца ногами, обутыми в валенки.
Потом Андрей сорвал со стены шинель, фуражку и, схватив Габриловича за руку, шагнул в туфлях за порог.
Габрилович больше не колебался. Его несли теперь события. Он готов был драться за полученную весть.
У автомобилистов все спали. Только в одном углу на лежанке, при свете крошечного ночника, как всегда обнявшись, отгораживаясь в своем личном от будней войны, сидели Борисоглебский и румынская девушка…
Андрей ворвался в комнату, не стучась.
— Господа, слышали новость?!