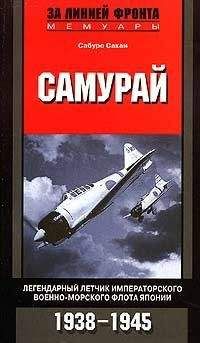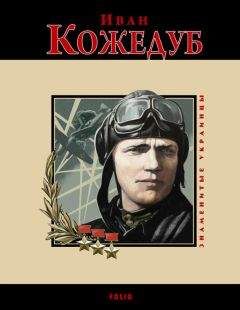Владимир Рудный - Гангутцы
— Какие м-огут быть неясности, если мы орленка все знаем, как об-лупленного, — начал Щербаковский. — П-ри мне сегодня орленка ранило. Ходили мы на ш-люпке на К-угхольм, мины отвозили. На обратном пути и ранило. Когда в госпиталь отправляли, он даже з-аплакал. «А как же, говорит, с-с-собрание?!» Т-оварищи! Я Алешу д-авно знаю. В бой его в-водил. Н-икогда он не плакал. Даже к-огда я ф-отографию отобрал. Все тут про это знают, не буду распространяться… Т-ты не ст-рой р-ожу, Б-архатов! — огрызнулся вдруг Щербаковский, которому показалось, что Бархатов гримасничает и что у товарищей уже нет терпения слушать его медлительную речь. — Я з-аикаться от к-онтузии стал. Я с-ейчас з-акругляюсь. Х-очу сказать, что Алеша н-астоящий советский человек. Х-ороший будет коммунист. Я ему даже ф-отографию в бушлат вложил, х-оть он и не видел… К-ак самому отважному среди нас. И н-икто мне т-тут не скажет, что он н-не самый от-важный! Верно?..
Щербаковскому горячо захлопали. Он тут же приосанился, хотел еще что-то сказать. Но Богданыч, отлично зная характер Ивана Петровича и словно чуя, что именно здесь надо его остановить, чтобы не наговорил лишнего, строго спросил:
— У тебя все, Иван Петрович?
— П-пускай все, — махнул рукой Щербаковский и удалился на свое место рядом с Бархатовым — на опрокинутую ржавым килем вверх старую шлюпку.
Собрание решило разобрать заявление Алексея Горденко. Выслушав рекомендации и боевую характеристику, обсудив, постановили единогласно: Алексея Горденко принять кандидатом в члены Всесоюзной Коммунистической партии.
Когда дошла очередь до самого Щербаковского, боевые заслуги и героизм которого знали теперь не только на Хорсене, но и на всем Ханко, он совсем притих. С опаской поглядывая на Бархатова, он мучительно думал: «Что же скажет этот строго принципиальный товарищ?»
Много говорили о Щербаковском. Хвалили. Критиковали. Но Бархатов, именно Бархатов дал Щербаковскому такую хорошую характеристику, какой тот и не ждал. Щербаковский слушал, широко раскрыв глаза, и не мог понять: Бархатов это говорит или не Бархатов? «Так он же не такой уж занозистый парень, каким все время представлялся». И когда в конце своей речи Бархатов высказал то, чего больше всего боялся Щербаковский, тот воспринял это не с обидой, а с болью и стыдом.
— В партию вступаешь, Иван Петрович, — веско, но без тени покровительства произнес Бархатов. — Придется кое с какими привычками распрощаться. Ухарство, может быть, и хорошо в десанте, когда идешь к противнику в тыл, напролом. А вот теперь мы будем сидеть в обороне. Ох как не хочется сидеть на одном месте, как подмывает каждого из нас идти вперед, наступать! Вот тут-то нам и нужна собранность, подтянутость, дисциплина, воля и влияние бойца-большевика.
Богданыч, как один из рекомендующих Щербаковского, должен был выступить в числе первых, но, как председатель собрания, он дождался, когда высказались все, и лишь тогда взял себе слово.
— Без Ивана Петровича наша рота не рота, — сказал он. — Иван Петрович часто может развеселить людей тогда, когда, кажется, совсем не до веселья. Это очень ценное качество. Щербаковский бодрый человек, здоровый, верит в победу. Не буду говорить о его храбрости — об этом говорил Бархатов, да и все знают. Но вот на Гунхольме он действовал за командира роты и показал, что растет он как воин у нас на глазах. Иван Петрович проявил настоящую находчивость в обороне…
Видя, с каким удовольствием Щербаковский задрал свою бородку, Богданыч продолжал:
— Но теперь все выше требования к каждому из нас. Обстановка трудная. Прет фашист вперед… Надо вот так — всего себя собрать в кулак и выстоять. Это главная задача, всесоюзная: выстоять! А выстоять труднее, чем в атаку идти. Вы все знаете, что нам легче было Эльмхольм штурмовать, чем сутки лежать в обороне на скале. Мне часто приходит в голову сравнение с пограничниками. Три года ходит человек в дозор, ждет каждую ночь врага, а бывает, что за свою службу ни одного нарушителя не встретит. Ну что же, слабый душой человек скажет: «Чепуха все это, никакие тут шпионы не ходят». Тогда он потеряет свое главное оружие — бдительность. Я это к тому говорю, что и мне и тебе, Иван Петрович, большое теперь нужно терпение, выдержка, стойкость. На всякое свое желание умей надевать узду. Хочется наступать, но мало ли что хочется. Сейчас нам показать себя надо в обороне, в труде. Ячество надо бросить и к себе относиться построже. Дисциплине нам, прямо скажу, незазорно поучиться у пехоты, у таких, как саперы Репнина. Особенно сейчас, когда будем укреплять острова…
Щербаковского приняли кандидатом в члены партии, за это проголосовали все коммунисты.
Подошли ко второму вопросу повестки дня. Слово взял Томилов.
Искоса поглядывая на Гранина, Томилов сказал:
— Шли мы сегодня с пристани. Слышу — матросы говорят: «Веселые идут командир и комиссар, наверно, их похвалили». Похвалили нас с командиром — это верно. Только к концу была такая баня, что стыдно стало. Героизм, товарищи, не только в том, чтобы в десант ходить и пулеметы захватывать. Нам надо строить укрепления. Вот командир нашего отряда капитан Гранин выступил в «Красном Гангуте» со статьей, где правильно указывает, что надо строить, строить и строить.
Гранин хмуро посмотрел на Томилова, желая понять, шутит он или серьезно его хвалит. Но Томилов всерьез продолжал:
— Весь гарнизон учится у нас ходить в десанты. Пусть же весь гарнизон берет с нас пример, как надо закреплять добытые кровью наших товарищей острова.
А когда кончилось партийное собрание, к Томилову подошел Богданыч:
— Товарищ комиссар, разрешите отложить мой дом отдыха до другого раза?
— Почему, Богданыч? Отдохнуть вам уже давно пора. Впереди самое трудное время.
— Бойцы скажут: тут аврал, а заместитель политрука в отпуск отправился. Обязанности у меня сейчас другие.
— Хорошо, Богданыч. Как только дзоты поставим, отправлю тебя на Утиный мыс без разговоров.
* * *Весь отряд начал строить линию обороны Хорсенского архипелага. Сколько помощников завелось теперь у Репнина!
В шторм, в осеннее ненастье, под обстрелом матросы и солдаты сооружали убежища, дзоты, противопехотные препятствия, ставили проволоку и минные поля. Лейтенант Пружина сплавлял плоты. Каждую ночь на островах стучали топоры. По звуку топоров финны открывали огонь, но солдаты и матросы работу не прекращали. Если противник разбивал только что построенный дзот, саперы и матросы тут же гнали к острову новый плот.
Нашелся в отряде волжский плотовщик Герасим Недоложко. Кругленький, коротконогий, служил он раньше на строительстве военно-морской базы по вольному найму плотником. Человек он по природе своей артельный; с плотниками он переезжал с одной стройки на другую. Где только не побывал Недоложко до войны! По его трудовой книжке можно было изучать географию предвоенных пятилеток. На Ханко он завербовался тоже со своей артелью. А когда началась война, вся плотницкая бригада Герасима Недоложко была зачислена в строительный батальон и превратилась в отделение под его командой.
Но артельный дух в этом плотницком отделении Недоложко оставался. Недоложко, такой на вид неуклюжий, плоты вязал ловко и дело свое знал. Он умудрялся за ночь перегнать бревна для трех-четырех дзотов до самых дальних островов, будь на море хоть штиль, хоть шторм.
Возвращались плотовщики промокшие, замерзшие, все скопом за своим бывшим бригадиром, а ныне командиром, шли к командному пункту и дожидались, пока он доложит Гранину и тот даст разрешение получить выделенный для плотовщиков спирт, — этим и спасались от всех простуд.
Герасим Недоложко входил к Гранину и, окая, докладывал:
— Так что, товарищ капитан, плоты на Эльмхольм доставлены.
Никак не мог Гранин отучить его от этого «так что».
— Молодцы, — говорил Гранин, — хвалю, — и, зная, что за этим докладом последует, выжидал.
Недоложко переступал с ноги на ногу и робко произносил:
— Так что, товарищ капитан, считаю, что робята промокли…
— Сколько вас человек?
— Сам-восьмой, товарищ капитан.
— Когда я вас отучу от этих «так что» и «сам-восьмой»! — притворно негодовал Гранин. — Пивоваров, выпиши этим артельщикам пятьсот граммов спирта.
— Спасибо, товарищ капитан, — кисло благодарил отделенный. — Разрешите выйти?
К рассвету следующего дня Недоложко снова появлялся на КП.
— Так что, товарищ капитан, плоты на Гунхольм доставлены.
— Молодцы! Хвалю, — неизменно говорил Гранин.
— Так что, считаю, робята промокли…
— Сколько вас, мокрых?
— Сам-десятый, товарищ капитан…
— Пивоваров, выпиши-ка этому «сам-десятому» четыреста граммов.
— Спасибо, товарищ капитан! Разрешите идти?..