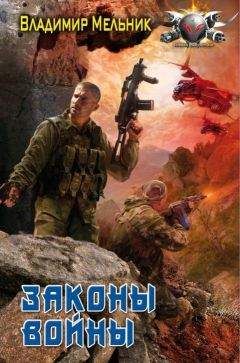Олег Верещагин - Скаутский галстук
— Чего, пайку принесли?
— Мотал, что ли? — поинтересовался быстроглазый худощавый паренёк. Я понял, что он спрашивает про зону и отозвался:
— Не, так…
— Жаль, я думал — своего брата блатнячка встретил а ты тоже фраер… — вздохнул он. Курносый молча показал ему кулак, а я понял, что это всё просто приколы. Худощавый усмехнулся, откинулся на сено и негромко запел:
По карманам ловко смыкал,
В драке всех ножом он тыкал
И за то прозвали его Смыком — оппа!..
Странно, но я чувствовал себя сейчас намного лучше, чем раньше. Может быть, потому что появилась какая-то определённость… Кстати, никто не спешил мне представляться и никто ничего не спрашивал у меня. Старших ребят кроме курносого крепыша и приблатнённого быстроглазика оказалось ещё трое. Двое типично сельские мальчишки, угрюмые и малоподвижные. И белокурый мальчишка, то и дело покусывавший уголок губы. Я присматривался к ним, они — ко мне, каждый по-своему.
Девчонки выделили нам кашу и хлеб. Каша оказалась овсянкой, и то, что её плюхали в ладони, настроения не улучшало. Бачок и картонный ящик никто забирать не спешил, зато вдруг вагон дёрнулся, лязгнул, по полу загуляли сквознячки, и я понял, что мы едем. Вот тут я не выдержал:
— Куда нас? — спросил я сразу у всех и ни у кого. Ответил курносый:
— Перед паровозом поставили. От партизан. Да всё как всегда.
— Перед каким паровозом? — не понял я. — Зачем перед паровозом?
— Товарисч не из нашей камеры, — заметил приблатнённый. — Он сел не на тот поезд.
— Можно подумать, что ты тут всю жизнь мечтал оказаться, — огрызнулся я. Он покладисто согласился:
— Тоже верно… А перед паровозом нас пускают уже две недели, чтобы партизаны состав не подорвали. Вся округа знает, что в вагоне гоняют младших из детского дома. Под это дело они своих раненых с фронта вывозят, а на фронт, само собой, гонят подкрепления и технику. Знают, что наши ничего делать не станут. Вот и вся история.
— Ччёрт… — процедил я и яростно облизал ладони. Чуть не спросил, где помыть руки и свирепо вытер их о стену. — Вы тоже из детдома, что ли?
— А ты? — спросил курносый.
— Я нет… Я беженец. Из Новгорода. В общем, так получилось…
— Мы тут все беженцы и у всех так получилось, — сказал белобрысый. — Кто постарше, я имею в виду. Из детдома младшие и девчонки. Их сперва не трогали, как они тут застряли. В одном селе. А потом раз — и сгребли…
Я посмотрел в сторону младших. Девчонки собрали тех полукругом, и од-на из них что-то строго говорила. Я различил слова: „СССР… Сталин… война… фашисты…“ Политработа. Великая вещь, как говорил „АСК“. Но мне-то что делать?
— Бежать не пробовали? — деловито спросил я. Все пятеро переглянулись. Курносый сказал:
— Они предупредили, что младших убьют, если кто-то сбежит. У них это быстро.
— Сволочи, — искренне сказал я и сообразил вдруг, что это касается меня напрямую! Я тоже во всём этом по уши! — Давайте познакомимся, что ли… Вот честное слово, я не провокатор. Я Борька. Шалыгин.
— Сашка Казьмин, — протянул мне руку курносый.
Блатнячок оказался Гришей Григорьевым (я так и не понял, правда ли это). Сельских ребят звали Савка Пантюхин и Тошка Буров. Белобрысый оказался Колькой Витцелем.
— Так ты немец, что ли? — удивился я.
— Я советский человек, — упрямо сказал он. — И родители у меня советские люди. Мне эти, — он мотнул куда-то головой, — уже говорили, ты, мол, фольксдойче, твоё место в наших рядах… Пусть подавятся своим местом, гады, фашисты…
— Ясно, — пробормотал я. Гришка заметил:
— Камзол у тебя высший класс. С кого снял?
— С убитого немца, — ответил я. — Удобная вещь в лесу, — и заметил, что меня смерили внимательными взглядами. — А как тут с туалетом?
— Дырка вон там, — Сашка ткнул в переднюю часть вагона, где была перегородка из висящих одеял. Я снова ругнулся:
— Номер с удобствами… — оперся спиной о стену плотней и охнул.
— Били? — спросил Сашка. Я поморщился:
— Да-а… Прикладом один раз… Ерунда.
Вагон поматывало на рельсах, под полом скрежетало и ухало. В щелях начинало алеть — закат… Подходил концу первый день моего пребывания в… Кстати, какой же это год? Не сорок первый — весной войны ещё не было, а тут явно май. Весна сорок третьего или, скорей, сорок второго. В сорок четвёртом они уже не были такими наглыми, а в сорок пятом война закончилась… Эх, сюда бы Олега, он бы по форме догадался… Нет, стоп. „Строк“, оставайся на своём месте, такое желать даже в шутку не стоит…
Я сходил за занавеску — отлить, весь день ведь терпел. Как-то особо стыдно не было. Что делать, раз обстоятельства такие? Вернувшись, снова улёгся на солому. Меня поразило, как тихо и послушно вели себя младшие — подчинялись практически каждому жесту девчонок и буквально глядели им в рот. Следя за этим, я сказал бездумно:
— Когда меня вели, навстречу пленные шли… Один упал, и конвоир его заколол. Я не думал, что это так… просто.
— Это ты ещё мало видел, — сказал Сашка.
— Немного, — согласился я. — А такого и вовсе не видеть бы.
— Это правда, — он улёгся рядом и закинул руки за голову. Мне хотелось спросить, каким образом он сам попал к немцам, но я понимал, что задавать такой вопрос небезопасно. Придушат ночью, долго ли. Решат, что провокатор или предатель. Колька спросил из полутьмы:
— Ты не слышал, что на фронте?
— Нет, — отозвался я. — Я в лесу долго был… А что было последний раз?
— Наши начали наступление на Севастополь, — надо было слышать, как Колька произнёс „наши“… А я промолчал. Олег нам буквально все уши прожужжал, и я сейчас хорошо вспомнил всё, им рассказанное.
8 мая 1942 года — именно сегодня — армия Манштейна встречным ударом разгромила наши войска в Крыму, пытавшиеся деблокировать Севастополь. 14 мая падёт Керчь. Через четыре дня — 12 мая — наши пойдут в наступление на Харьков, немцы заманят армию в „мешок“ и в конце мая, разделавшись с ней, по степям рванут на Сталинград и Кавказ… А ещё именно в эти дни в сорок втором Северо-Западный и Ленинградский фронты начали наступление, чтобы снять блокаду Ленинграда — и скоро генерал Власов где-то недалеко от нас погубит в болотах 2-ю ударную армию…
О господи. Самое страшное ещё впереди… И посреди всего этого страшного — я. Как муха в клею. И что делать — совершенно, до стона, непонятно.
Может быть, просто сейчас поспать? А там решим?
С этими мыслями я и уснул.
8
Спал я одновременно глубоко и плохо. Это возможно, если кто не верит. Меня донимала боль в руке, шум под полом, грохот и свист, гудки и ещё чёрт-те-что. Но проснуться при этом я не мог — слишком устал. Усталость не давала никак реагировать на все эти мутные заморочки, требуя одного: спать. Отдыхать. Может, оно и было к лучшему. Ещё мне снилось, что я дома и то, что со мной случилось — сон.
С этой мыслью я и проснулся. Как раз к завтраку. И снова — каюсь — зажмурил глаза, надеясь, что всё окружающее растает и пропадёт.
Чёрта с два…
Двери были открыты настежь. За ними маячили конвоиры — немцы, кажется. А за их спинами были угрюмые строения, составы и — море! Совсем близко! На берегу лежали несколько корабельных корпусов. А подальше угрюмо серели на рейде боевые суда. Два или три не очень больших конвоировали подводную лодку, на палубе и рубке которой суетились люди.
— Рига, — сказал Сашка.
Он привстал, опираясь на локти. Остальные ещё дремали… хотя нет, мелкие уже возились и девчонки проснулись.
— Рига? — заторможенно спросил я. — Литва? Сашка кивнул и проводил взглядом проплывающие по соседнему пути платформы, на которых стояли окрашенные в жёлто-коричневое танки. — В Африку собирались отправить, — машинально сказал я. Сашка повернулся:
— Откуда знаешь?
— А окраска… Такая для пустыни.
— В Африку… — он проводил взглядом ещё один танк. — Значит, плохо у них, раз резервы с фронта на фронт кидают…
— Не особо радуйся, — покачал я головой, рассматривая свою руку. — Сил у них ещё ого-го… Вся Европа на них работает. И многие — охотно.
Сашка промолчал. Но глаза у него были не просто ненавидящие — я прочёл в них что-то такое, чему просто не было названия в человеческом языке. Чтобы отвлечься, я снова стал смотреть в дверь. Двое мелких пацанов, присев и свесив ноги наружу, повторяли за одним из солдат — молодым весёлым парнем — под смех некоторых его товарищей — исковерканные матерные русские слова — старательно и непонимающе. Но уже немолодой немец с какими-то нашивками, подойдя, отпустил молодому подзатыльник и что-то сказал. Подошла и одна из девчонок, взяла младших, не глядя на немцев, за шиворотки, поставила на ноги и несильно ударила по губам одного и другого:
— Чтобы больше не слышала, — сказала она. — Пошли на место.