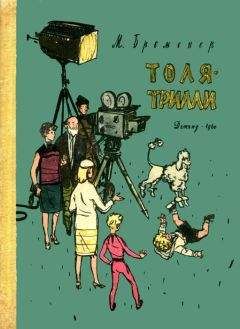Макс Бременер - Присутствие духа
— Воля, ты гляди, гляди!.. — настойчиво повторяла она вполголоса. — Покормим, кого всех жальче…
Воля точно знал, кого ему «всех жальче», но, осматриваясь по сторонам, не видел его, и они с тетей Пашей продолжали идти от хвоста к голове состава.
Вдруг от вагона к вагону стала метаться весть, что всем надо переходить в состав, стоящий на другом пути, — тот состав будто бы уже почти готов к отправлению. Казалось, попав в набитые людьми вагоны, весть разом взрывалась в них — так живо прыгали из тамбуров на землю пассажиры, выбрасывали из окон вещи… И вот теперь, когда все устремились к пустому составу, чтобы успеть занять в нем полки, Воля наконец увидел мальчика, обронившего тюбетейку: снова тот мчался со своими узлом и ведром…
Размахивая тюбетейкой, Воля нагнал его, помог ему втащить вещи в вагон. Успел для него захватить третью полку. Потом они с тетей Пашей накормили мальчика и его мать, напоили их (Воля сбегал и набрал для них чистой холодной воды в большую кастрюлю, извлеченную из эмалированного ведра), и после этого мать мальчика, прощаясь, обняла тетю Пашу, вытащила откуда-то брошечку с самоцветом, попыталась приколоть ее к тети Пашиной груди. Однако тетя Паша тут же отпрянула и, сказавши: «Что вы, сейчас беда!..» (почти как Екатерина Матвеевна), ушла из вагона.
А Воля с мальчиком стоял в тамбуре, и тот рассказывал ему о себе. Рассказывал торопливо, потому что поезд мог тронуться каждую минуту. Они с матерью из Западной Украины, их городок позавчера бомбили фашисты, и дом, где они жили, сгорел, уцелели только кастрюли, больше ничего не удалось спасти. Его отец умер в прошлом году, а в первую мировую войну он был офицером русской царской армии. Когда позапрошлой осенью в городок (он входил в состав Польши) вступили не германские войска, а советские части, их семья была счастлива. Отец симпатизировал большевикам (Воля недоверчиво усмехнулся: впервые он слышал не о беззаветной преданности партии и беспредельной любви к ней, но лишь о симпатии), ему, Жоре, нравилось учиться в советской школе. Он на «отлично» перешел в восьмой класс, похвальную грамоту получил, его даже собирались взять на экскурсию в Киев, но потом, правда, не взяли, поскольку все-таки отец был в свое время царским офицером…
— Я не в обиде, ты не думай, нет, — прервал он тут себя и тревожно взглянул на Волю. — Просто я тебе рассказываю всё, понимаешь?..
И Воля понял, что Жора не обидой с ним делится, а именно всем, что как раз полнотою торопливой откровенности он отвечает, платит сейчас за сочувствие к себе…
— У вас родные есть? Вы к родным сейчас будете добираться? — спросил Воля.
— Нет. — Мальчик покачал головой, — Мы просто куда-нибудь… еще не знаем. В нашем эшелоне вообще мало у кого есть в России родственники…
В тамбуре стало очень тесно, он как-то незаметно наполнился людьми: хоть тут и было жарко, но дышалось все-таки легче, чем в вагоне. Стоя нос к носу с Жорой, стиснутый со всех сторон людьми с измученными, в поту и копоти лицами, Воля вдруг подумал о том, что он тут, один среди всех, — человек другой судьбы. Ему не предстоит ехать в переполненном душном вагоне неизвестно куда, неизвестно сколько… Он скоро вернется в просторную чистую квартиру, в комнату, где посреди стола стоит на круглой вязаной салфетке графин с прозрачной холодной водой. После дежурства на крыше школы он на рассвете уснет в своей постели, откинув белое покрывало…
— Знаешь что? — сказал быстро Воля. — Если вы с матерью не знаете пока что, куда ехать, то… к нам можно! Понял?.. У нас хорошо, увидишь. Места хватит. Сейчас возьмем ваши вещи и пойдем! — Ему казалось, что помешать им может только одно: внезапное, сию же минуту, отправление эшелона. Тогда они не успеют. — Помоетесь… Осенью, если от вас фашистов еще не выбьют, в школу на пару будем ходить. Если уже выбьют — домой поедете! Ну?!
Но Жора почему-то не трогался с места, не спешил за матерью и вещами.
— Что ты… — сказал он, слабо улыбнулся и покачал головой. — А разве… разве вы сами еще не уезжаете?..
— Мы?!
В городе, конечно, было тревожно, однако и в последние дни паники не возникало. Считалось, что немецкое наступление будет остановлено у старой советско-польской границы, существовавшей до тридцать девятого года. Это мнение было для Воли особенно убедительным, потому что его разделял Гнедин.
— Мы никуда не уезжаем, — твердо, чуть отчужденно ответил Воля.
Мальчик не обратил на его тон никакого внимания.
— Нельзя упускать момент, — произнес он медленно и, как показалось Воле, с той особенной внятностью, с какой обращаются к глухим, угадывающим слова по движениям губ. — Это очень опасно, — добавил он, и опять движения его губ были нарочито раздельны и четки…
— А что безопасно? — спросил Воля с усмешкой. — Уехать подальше?
Не замечая усмешки, Жора кивнул:
— Подальше. Например, вот в… знаешь крупный город на Урале?.. Носит имя известного большевика…
— В Свердловск? — громко подсказал Воля. — А то еще можно в Омск! Или лучше в Томск?! А?..
Ему казалось, что он глядит на Жору презрительным, испепеляющим взглядом, а на самом деле он смотрел на него обиженно и растерянно, сам испуганный внезапным, бесповоротным переходом от жалости к неприязни… «Трус! — думал он. — Ему только подальше бы!.. Трус!»
И, чтобы не сказать этого вслух, он, не прощаясь, без слова, ринулся из тамбура вниз по лесенке, спрыгнул на землю и побежал к вокзалу…
Дома Воля застал мать, Гнедина и Бабинца (он жил в доме напротив и был родичем Прасковьи Фоминичны, отцом ее племянника Кольки) за разговором, важность которого была видна по их лицам.
— …поездом или автомобилем — все равно, и безотлагательно, — говорил Евгений Осипович, настойчиво глядя на Екатерину Матвеевну.
— Или пешком? — спросила та, и на Волю, еще не вполне понявшего, о чем у них речь, пахнуло близостью опасности.
— На худой конец, — покачал головой Гнедин, не исключая такого варианта, но сомневаясь в нем. — Пешком — далеко ли…
— Почему? И пешком далеко можно уйти, — перебил Бабинец, хотя у него была только одна нога. — Знать бы куда!..
Тут все трое заметили вошедшего Волю и переглянулись между собой.
— Вот, понимаешь ли… — сказал Гнедин и сделал над собой какое-то усилие. — Из сегодняшней сводки видно, что линия старой советско-польской границы перейдена фашистской армией. Ну, и теперь… Вряд ли на их пути сюда есть рубежи, которые можно долго удерживать.
Он произнес это так, как докладывал бы своему командарму о поражении, не имея оправданий.
— Как же?! — с испугом и, показалось Евгению Осиповичу, с укором спросил Воля. — Вы же говорили, что…
— Не знаю, — тяжело ответил Гнедин и наклонил голову. — Ну, так… Пойду с Машей прощусь, — проговорил он и для одного Воли — остальные знали уже — добавил: — Я ведь сегодня уезжаю.
Все последние дни Евгений Осипович настойчиво пытался дозвониться по междугородней в Москву, в Наркомат Обороны. Он звонил с почты, из кабинета горвоенкомата, — без успеха. С Москвой не было прямой связи, линия была перегружена. В переговорах с Москвой решались вопросы формирования новых воинских соединений, эвакуации предприятий на восток, судьбы крупных коллективов, жизни или смерти тысяч людей. А он звонил, чтобы спросить о себе одном, о своем назначении…
Гнедин понимал, что с началом войны объем работы Наркомата Обороны по меньшей мере утысячерился. Как же теперь можно было надеяться, что его дело решится, что на него будет затрачено время в больших кабинетах на улице Фрунзе, когда и в предвоенные, почти спокойные недели что-то, видно, было важнее, первоочереднее, чем его назначение и судьба.
Невероятно, нелогично было полагать, что ему удастся дозвониться в Москву, что его звонок сыграет роль, и Гнедин не надеялся, но и попыток не прекращал.
«Наверно, логично было бы, — думал он как-то в те дни, идя с Машей по городскому парку, по центральной аллее которого маршировали новобранцы, только что надевшие военную форму, — если б я был сейчас в бою или в земле, с немецкой пулей в сердце. Но я жив, и я…»
Голос ее от слова к слову становился все тише, точно иссякал.
— Как — нет? Есть мама, — ответил он медленно и твердо. Потом наклонился к Машиному уху и, кивнув в сторону Прасковьи Фоминичны, энергично проговорил: — Не надо этого повторять, но она глупая женщина! Понимаешь?..
— И бабушка ведь есть же? — спросила Маша чуть окрепшим голосом, но с неуверенностью и мольбой.
Гнедин резко, утвердительно качнул головой и добавил то, чего не собирался говорить, чего никак не ожидал от себя еще минуту назад.
— И папа есть! — произнес он с силой, с неутихшим раздражением к «глупой женщине».
— Где? — спросила Маша. До этой минуты она глядела на Евгения Осиповича в щелки между веками, не то щурясь, не то силясь удержать слезы, а теперь глаза ее разом широко раскрылись, и по лицу, с которого исчезло плачущее выражение, свободно покатились слезинки. — А где?