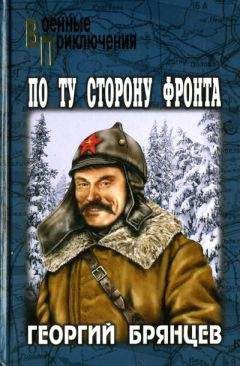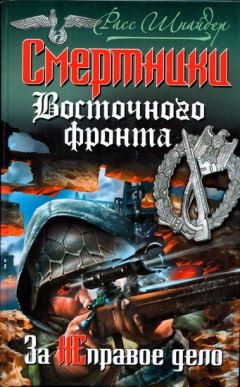Северина Шмаглевская - Невиновные в Нюрнберге
Шумит вода, теплый пар покрывает зеркало, затрудняет дыхание, но можно ничего не бояться — поездка в Нюрнберг еще одно подтверждение этого. Конец гитлеровской оккупации. Конец кошмару. Осталось только вернуть себе чувство реальности, а это непросто — трудно привыкнуть воспринимать ситуации, подобные сегодняшней, однозначно и просто, без двусмысленных ассоциаций.
Когда мне было пятнадцать или, может быть, тринадцать лет, мне приснилось, будто бы я умерла. Дематериализовалась, стала невидимой и неощутимой. Перестала существовать для всех окружающих. И все же я была! Сознание оставалось при мне, я видела, слышала, думала. Это было странное ощущение: мой слух и зрение и мысль находились на высоте мужского роста, то есть немножко выше, чем прежде, до наступления этой удивительной смерти. Я понимала, о чем говорят проходящие мимо несуществующей меня люди, разбирала их голоса, слышала дыхание, следила за движениями губ, миганием век, понимала смысл их слов, но не могла принять в этом участия, не могла включиться, и это было невыносимо.
Их реакции или, скорее, отсутствие реакции на мои попытки вступить с ними в контакт были доказательством того, что оборвались все связи. Я хотела дать им знать о себе, хотела обратить их внимание на свой никому не видный, прозрачный и безмолвный облик. Напрасно! У меня не было голоса, я была неосязаема. Мое нетерпение росло, я вновь и вновь возобновляла попытки — безрезультатно. Появлялась почти полная уверенность, удивление и скорбь оттого, что я перестала жить. Умерла. Покинула вас, люди моего поколения, и тут же сомкнулись ряды голов, океан, из которого зачерпнули горсть воды. Вы продолжаете идти по улицам, распеваете песни, вас много повсюду, в домах и на стадионах, вы стремитесь вперед, вас поддерживает коллектив и собственная индивидуальность. Вы умеете быть братьями. Точно так же, как и прежде, когда я еще была ребенком, живущим среди вас, когда для меня, как и для вас, проливался на раскаленный уличный асфальт прохладный, освежающий дождь.
И сегодня тоже идет дождь. Дождь со снегом. Я чувствую приятный холодок, сырость, слышу негромкий, приглушенный шум. Меня радует любое проявление жизни. И трогает до глубины души. Но у меня нет слез. И только этим я отличаюсь от вас.
Я прижимаюсь лбом к холодному стеклу в незнакомом чужом «Гранд-отеле», смотрю на клубящуюся метель и зову, зову — люди, проснитесь, очнитесь, люди, живущие на смешном шарике под названием планета Земля, начните думать, анализировать бессмысленность загубленной, потерянной жизни.
Мокрый снег залепил окно, он валит все гуще и гуще, постепенно накрывая улицу. Теперь не видно уже ни зонтов, ни человеческих фигур, одна только беснующаяся белизна — большой бал переместился из гостиницы на улицу, свистящий ветер заменил оркестр, это же вальс; метель стала неотъемлемым фоном определенных событий, мгновенно возникают ассоциации, теснят друг друга, трудно отключиться, трудно перестать думать.
Скорее, хоть ненадолго выйти отсюда, посмотреть, каковы они, какими глазами смотрят на свой город, послушать, о чем говорят в трамвае жители знаменитого Нюрнберга, который снова прославился — на этот раз Трибуналом над главными нацистскими преступниками, деятельность которых международное правосудие назвало геноцидом. Любопытно, будут ли в новых изданиях путеводителей сведения о Нюрнбергском процессе как о любопытной детали, еще одной достопримечательности этого sehenswürdig[4] города? Скорее, скорее искать ответы на все эти вопросы.
Я одеваюсь и выхожу. Моросит холодный дождик. На улицах Нюрнберга пусто. Одинокие прохожие сутулятся, клонятся к земле, и это производит странное впечатление: кажется, будто все они ищут что-то, оброненное в мокрый снег. Невозможно различить их лица — все укутаны платками, замотаны шарфами, грязными драными тряпками. Идут преимущественно пожилые женщины, точнее, плохо одетые женщины, в длинных, сшитых по довоенной моде пальто, потрепанных, изношенных. Женщины, одетые в молчание, женщины, одетые в траур, который хоть и не окрашен в черный цвет, и без крепа, но все же — он есть, сопровождает их, останавливается вместе с ними на трамвайных остановках и ждет. Сжатые внутренней судорогой губы. Невидящие глаза.
Все победы Адольфа Гитлера, все его броски и марши, все конверты с адресами полевых почт легли на их хрупкие плечи, но об этой с трудом скрываемой боли не знало ни министерство пропаганды тогда, ни корреспонденты, прибывшие теперь на процесс со всех концов планеты. Тайна страдания женщин, которые остались одни.
Я отдаляюсь от гостиницы в полной уверенности, что вот-вот остановит меня резкий немецкий оклик, что я столкнусь с грубостью и злобой, увижу проявления сверхчеловеческой (Übermensch’a [5]) энергии. Но я ошиблась. В то воскресенье по улицам Нюрнберга ходили только подавленные существа, несущие свое горе или усталость. Как ни странно, я не встретила ни одной эсэсовки, ни одного капо. Мир, в котором нет олицетворения террора, вызывает во мне недоверие. Ведь эсэсовки по-прежнему существуют, они лишь на время затаились, ушли в собственное молчание. Когда я спрашиваю, как пройти к дому Дюрера, они поднимают руку и молча показывают направление. Глаза их остаются остекленевшими, невидящими.
Дюрер. Великий мастер. Это он создал образ смерти, подстерегающей рыцаря в пути, неподалеку от замка, башни которого с окнами, бойницами и стенами художник расположил на холме, нарисовал и дорогу, ведущую к домашнему теплу и добрым людям. Это совсем рядом! Рыцарь проходит мимо раскидистого дерева, и тут перед ним возникает призрак с отмеряющими время песочными часами в руках; отталкивающее видение, безносое, в венце из змей, с омерзительной речью, исходящей из глубины прогнившего черепа, сквозь мертвые губы. Здесь под спудом народных сказок, легенд и басен дремало кошмарное психическое заболевание; страшная ведьма, внушающая ужас самым смелым путникам, собирающая кости за алтарем храма и раскидывающая их ночами, беснуясь в поисках человеческого мяса; косоглазый дюреровский дьявол, с обломленным рогом и разинутой пастью осла, тупо и уныло глядящий перед собой, словно эсэсовец, утомленный еженощным многомесячным убиванием.
Что-то из жуткой картины этой осело в подсознании каждого из них, и, когда Адольф Гитлер, закомплексованный мерзавец, вскинул руку, дав знак могильщикам Европы, многие сразу знали, что надо делать.
Но все ли? Надо ли верить Арнольду Цвейгу или Ремарку, которые говорили о том, как мучительна война, которая ведется вопреки воле народа?
Я должна сама найти ответ на этот вопрос здесь, в Нюрнберге, буду искать его повсюду — и среди молчащих, гонимых метелью людей, и в зале заседаний Трибунала. Может, кто-нибудь из обвиняемых — сановников третьего рейха — произнесет слова, которые объяснят, почему они с таким упорством создавали вокруг себя могильный климат, дышали смрадом разлагающихся тел, запахом человеческой крови, почему так охотно топтали ногами кости убитых и кости еще живых.
Ответь, Нюрнберг. Открой нам правду, на которой дано будет строить будущее Европы, или по совету Себастьяна Вежбицы надо бежать в далекие края?..
Американский солдат, стоящий на посту у «Гранд-отеля», не обратил на меня ни малейшего внимания час назад, когда я выходила из гостиницы, теперь же, радуясь, что он не зря стоит, раскинул руки, категорически не пуская меня обратно. Его румяные щеки прямо сияют от счастливого ожидания; она там роется в сумочке, пусть себе роется на здоровье, бравый вояка тем временем напрягает мышцы — крепкий, хорошо сложенный парень, никто не войдет внутрь против его воли. Война хоть и окончилась, но здесь, пока идет военный суд, действуют фронтовые порядки.
Наконец я нашла зеленоватую картонку, дающую право на вход в гостиницу. Руки часового возвращаются на пояс, на губах появляется улыбка, подбородок снова начинает ритмично двигаться: жвачка помогает часовому скоротать время. Я с трудом понимаю искаженное жеванием слово:
— О’кэй!
У портье возле моего ключа приколота записка: «Прокурор Буковяк ждет. Позвоните по номеру 511».
Ноги подо мной подкашиваются, по всем кровеносным сосудам, по всем нервам расползается страх, бесчисленное число раз пережитый во время оккупации, страх приговоренного, не отпускавший с первого дня войны и до момента освобождения. Все уже позади, но вопреки рассудку ощущение ужаса крепко засело в нервных тканях, это психическая опухоль, возникшая у тех, кто на себе испытал, что значит отмена во время оккупации всех прежде существующих законов.
Такой хриплый деревянный голос мог бы скорее раздаться из плохо настроенного приемника или со стертой пластинки:
— Алло! Это комната пятьсот одиннадцать? Я получила вашу записку…