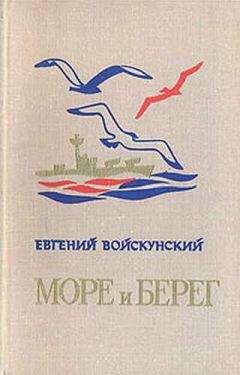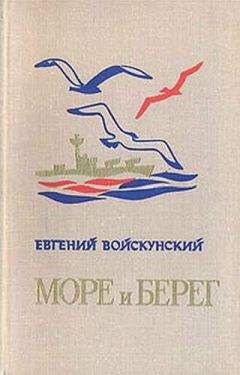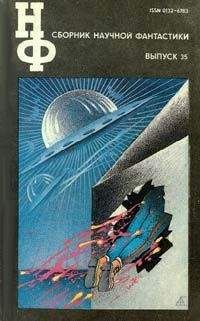Евгений Войскунский - Кронштадт
— Подорвался «Выстрел»! — кричит на мостике «Гюйса» сигнальщик Плахоткин.
Волков скомандовал рулевому лево на борт и перевел ручки машинного телеграфа на «стоп оба».
— Одерживать!.. Прямо руль!
Оборвался гул дизелей. «Гюйс» скользит по инерции к месту гибели левого соседа. Вода усеяна обломками, чернеют головы людей, спешащих отплыть от гибельного водоворота воронки, которая образовалась там, где ушел под воду «Выстрел».
Остановился «Гюйс», закачался на темной воде. Иноземцев, поднявшийся из машины посмотреть обстановку, замер у левого борта, пораженный картиной ночи. Впереди, милях в двух, горел транспорт, от языка огня бежали, колыхаясь на черной, будто маслянистой воде, отблески розового света. К борту «Гюйса» плыли люди, на их го ловы и взмахивающие руки тоже падал этот розовый свет беды.
Один за другим подплывают уцелевшие моряки «Выстрела». Хватаются за сброшенные с «Гюйса» концы. Боцман Кобыльский пролезает меж леерами за борт. Стоя на привальном брусе, одной рукой ухватясь за леерную стойку, протягивает другую подплывающему краснофлотцу:
— Давай, браток! — Вытягивает сильным рывком из воды. — За стойку держись, теперь подтягивайся… Давай! — вытаскивает следующего. — Да что ж ты… как мешок… Крепче держись! Оглушило тебя, что ли?.. Во… вот так… давай…
Совсем стемнело, погас на западе красный костер заката. Тревожно перемигивались в ночи ратьеры.
И мили не прошли, как новая беда. Рвануло, полыхнуло желтым огнем у борта «Минска». Лидер остановился, потеряв ход, с заклинившимся рулем. Пока экипаж боролся за живучесть корабля, перекрывая пути воде, проникшей в нижние помещения, к борту «Минска» был вызван эсминец «Скорый». Он подошел и подал на лидер буксирные концы, дал ход, канаты натянулись — и тут новый взрыв. «Скорый» вздрогнул, как остановленный на скаку конь, корпус его в середине с длинным и страшным металлическим скрежетом переломился надвое. Сыпались, прыгали за борт моряки, кому посчастливилось быть наверху в минуту катастрофы. С «Минска» спускали шлюпки. «Скорый» уходил под воду. Две неподвижные фигуры виднелись на его мостике — командир и комиссар. Они ушли со своим кораблем.
Мазут расползался по воде, медленно и тяжело горя неживым огнем. Прочь, прочь от горящего пятна, от буруна, вскинувшегося на месте гибели «Скорого», спешили отплыть люди.
Волков, развернув «Гюйс», осторожно подвел его к плывущим. Часть скоровцев была поднята на его борт, часть — на борт «Минска». Выплывшая из облаков луна, скошенная почти наполовину тенью, проложила по воде латунную переливающуюся дорожку. Дорожка протянулась к левому борту «Гюйса», слабо осветив людей на мостике, и людей с футштоками, стоявших вдоль борта, и, ближе к корме, неподвижную фигуру инженера-лейтенанта Иноземцева. Опять он поднялся из машины — что-то неудержимо влекло его наверх. Он видел горящее мазутное пятно, плывущих людей и поодаль — призрачный, окутанный паром силуэт «Минска», возле которого стояло спасательное судно, тоже входившее в состав отряда. Вокруг еще виднелись в лунном свете корабли, они казались странно безлюдными, как бы плывущими сами по себе, а не идущими по воле людей к определенной цели. И сама эта ночь казалась не реальной, данной ночью в череде других ночей, а последней, после которой уже ничего быть не может. Ничего, кроме острого запаха горящей нефти.
Внизу, в недрах корабля, ожили двигатели, забилось, мелко сотрясая палубу, железное сердце. Иноземцев, оторвавшись от грозного зрелища ночи, поспешил в машинное отделение. Лунная дорожка, будто приклеившись к борту «Гюйса», двинулась вместе с кораблем. Это продолжалось недолго: луна снова влетела в облака. Стало темно и холодно.
«Луге» днем повезло: бомбы рвались по обоим бортам, но прямых попаданий транспорт избежал. Капитан умело маневрировал. Расчеты двух зенитных автоматов и трех ДШК тоже умело работали.
— Повезло, — сказал Чернышев своему меднолицему спутнику, когда стало темнеть и утих вой «юнкерсов» в небе. — Ясно тебе, Речкалов? Повезло нам.
Они не видели, что происходило на воде и в воздухе: никого из пассажиров на верхнюю палубу не выпускали, — но, конечно, слышали рев моторов, стук зениток, протяжные грохоты бомбардировок.
Все это время Чернышев с Речкаловым сидели в коридоре жилой палубы напротив входа в кают-компанию. Тут горел тусклый плафон. Чуть поскрипывала переборка, на ней, над головой Чернышева, висели ярко-красный огнетушитель и свернутый спиралью серый пожарный шланг. Из кают-компании, превращенной в лазарет, доносились стоны раненых. Много их было на «Луге», все каюты были ими забиты.
К Чернышеву и Речкалову подсел маленький курносый ефрейтор с облупившейся звездочкой на мятой пилотке. Правая рука у него висела на грязной перевязи. Здоровой рукой он вытащил из кармана многократно сложенную эстонскую газету, сказал, часто моргая и улыбаясь:
— Эх, бумага есть, а табачку нету. Не разживусь ли у тебя, отец?
Чернышев экономно отсыпал ему махорки из кисета, свернул цигарку, дал прикурить. Ефрейтор затянулся с наслаждением.
— Спасибочко, — сказал. — А то у меня уши опухли не куримши.
— Вам что же — не выдают табаку?
— Как не выдают? Положено. Но сам посуди, отец, какое снабжение на передке, когда цельный месяц из боя не вылазишь?
Бычков — так его звали — был рад-радешенек, что спасся, что рана легкая, что теперь на Большой земле малость отдохнет в госпитале, «жир нарастит на кости», а уж потом можно «обратно воевать». Рассказывал, как с боями отступали они от станции Тапа аж до таллинской окраины, где трамвайная последняя остановка. И несколько раз все с новыми подробностями принимался о танках рассказывать, как они шли по картофельному полю, а он, Бычков, со своим пулеметом и вторым номером сховался на дне траншеи, а потом, когда танки прошли, высунулся и уложил пехоту, — почитай, цельный взвод, — которая перла за танками. А по танкам этим ка-ак вдарит артиллерия, морская, говорили, — так от них «одни шкилеты»… Тогда-то его, Бычкова, и поранило — надо же, осколком от своего снаряда… Ну, дела (крутил он весело головою)!
И опять, окутываясь махорочным дымом, начинал сначала, как шли они по картофельному полю…
А Чернышев ему и еще двум легкораненым, заявившимся на махорочный дух, о своем рассказал. Как из Кронштадта в июле месяце послали группу судоремонтников в Таллин. Он-то думал — по ремонту, по корпусной, стал быть, специальности, — ан нет. На Таллинском судоремонтном заводе излишки техимущества накопились. Надо было, стал быть, разобрать, что к чему, упаковать все это как полагается и погрузить на суда, в Краков отправить…
— В Краков? — Ефрейтор Бычков присвистнул. — Это в Польшу-то?
— Деревня, — строго посмотрел на него Чернышев из-под козырька своей кепки железного цвета. — Краков — это Кронштадт у нас так называют. Для краткости. Ясно тебе? — И продолжал: — Что сортовая сталь, что листовая — это для нужд судоремонта первое дело. Само собой, цветные металлы, баббит… комплекты корабельные… Ну, не твоего ума это дело, ефрейтор. Факт, что отправили в Краков много нужного железа. И все, ясно тебе? Отправить отправили, а вот часть группы не успела уйти с последним караваном, застряла, а потом такое началось… Велено было идти на посадку в Купеческую гавань, добрались туда через обстрелы, то и дело на землю кидайся, час лежи, два лежи, ну, добрались — а там!.. Видел ты, ефрейтор, как вагоны с боезапасом рвутся? То-то же. А ты говоришь — картофельное поле…
Тут вышел из кают-компании очкарик-врач в белом халате, покрутил недовольно носом:
— Что вы тут расселись, курилку устроили? Хоть топор вешай.
— А где нам сидеть? — нахохлился Чернышев. — В каютах мест нету, наверх не выпускают.
— Ну, хоть не дымите. Пароход еще подожжете.
— He подожгем, доктор. Тут самое место для куренья, вон и ящик с песком.
Махнул рукой врач…
А Чернышев продолжал: как метались они по горящим улицам, и Киселев Алексей Михайлович, ихний начальник, разузнал у встречного командира, что идти надо в Минную гавань, а тут опять обстрел уложил надолго… Потом Алексей Михайлович куда-то подевался, и остались они вдвоем с Речкаловым… Патруль их задержал… В Минную уже под утро заявились, и там бешеный старлей не хотел их на тральщик пускать…
— Помнишь, Николай, как он за пушку свою хватался?
— Помню, Василий Ермолаич, — кивнул Речкалов.
Он, видно, был молчальник. Его широкое, медным загаром покрытое лицо с выгоревшими желтыми бровями, с россыпью рябинок вокруг носа было замкнуто — будто раз и навсегда. На нем все было морское — мичманка, бушлат, фланелевка, брюки, — только без нашивок. Сразу видно: служил человек на флотах, потом, как срок службы вышел, демобилизовался и остался в Кронштадте — Кракове этом самом — на Морском заводе работать. А молчальник — ну что ж, таким уродился.