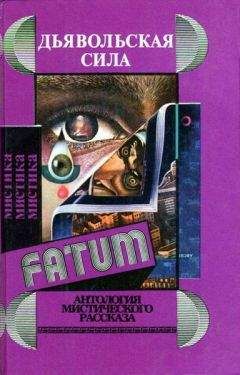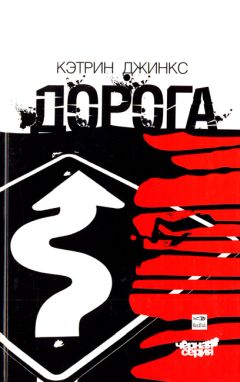Михаил Алексеев - Солдаты
— Записывайте меня, — первым попросил шахтер.
Но Мукершану возразил:
— Нет, Лодяну, тебе надо остаться. У тебя пятеро детей, жена больная. Да и возраст твой непризывной. Так что будешь работать среди молодых рабочих в своей шахте. К тому же у тебя в армии служит брат. Парень он, помнится, толковый.
— Разумный, ничего не скажешь, — с тихой гордостью за младшего брата проговорил шахтер. — Только обижаешь ты меня, старика, Николае…
— Ничего, ты тут нужнее, — успокоил его Мукершану.
Добровольцами оказались почти все. И Мукершану пришлось самому решать, кого взять с собой в армию; пожилых семейных рабочих он уговорил остаться на своих местах.
3
Дивизия генерала Сизова в полдень встретилась с большим препятствием. Путь ей преграждала неглубокая, но бурная и довольно широкая горная речушка Молдова, к тому же сильно порожистая. Движение полков застопорилось. Ждать, пока саперы наведут переправу, было просто невозможно: в войсках распространился слух, что левый сосед, овладев городом Тыргу-Фрумос, будто бы уже подходит к Роману — городу, взятие которого входило в задачу дивизии Сизова. Слух этот еще больше подогрел и без того разгоряченные солдатские души. Растерянность, вызванная встречей с злополучной речушкой, длилась всего лишь несколько минут.
— Что ж вы стоите, как мокрые курицы?.. Гвардия!.. — с этими словами широкоплечий пехотный старшина с перевязанной головой, не раздеваясь и не разуваясь, высоко подняв над собой бронебойное ружье, вошел в воду. — За-а мно-ой! — закричал он, и солдаты, один за другим, хохоча и задыхаясь от холодной горной воды, кинулись в речку.
— Это же Фетисов повел свою роту! — крикнул кто-то из сержантов. — Ну и ну!.. Вот чертушка!..
— Даешь Ромыния Маре! — неслось отовсюду.
Стрелковые батальоны быстро форсировали реку. На другом ее берегу солдаты разувались, выливали из сапог и ботинок воду; взбудораженные, повеселевшие и охмелевшие от радости стремительного движения, они строились в колонны и с песней шли вперед, пропадая в тучах пыли.
Вьюги да бураны,
Степи да курганы, —
неслись звуки, рожденные еще в огневые дни Сталинграда.
Грохот канонадный,
Дым пороховой… —
рвалась песня к желтому небу…
Мы идем к победам,
Страх для нас неведом!..
Река ревела, билась меж сотен солдатских ног, заливала лица бойцов сердитыми брызгами, многих сваливала, готовая унести куда-то. Но таких быстро подхватывали под руки их товарищи, и волны реки в бессильной ярости отступали. В музыку водоворотов вплетались, как гимн мужеству, слова неумолкавшей песни:
Страх для нас неводом!..
Какой-то солдат попал в колдобину, нырнул с головой, потом вновь появился на поверхности, фыркая и отдуваясь. Пилотку его уносило вниз по течению. Он попробовал было ее догнать, но скоро убедился, что это ему не удастся. А солдаты кричали со всех сторон:
— Держи, держи ее, Федченко!..
Но маленький солдатик, ученик Фетисова, без сожаления махнул рукой.
— Хай плыве. Мабуть, в Черном мори жинка моя, Глаша, поймав… — Он говорил это без улыбки. Худенькое конопатое лицо солдата было серьезно-сосредоточенным.
«Глаша!»
Это слово больно резануло сердце старого сибиряка. Кузьмич так прикусил ус, что несколько рыжих, прокуренных волосинок, откушенных им, упало в воду. Ездовой размахнулся, с силой огрел лошадей наискосок сразу обеих длинным, сплетенным в форме змеи кнутом. Одноухая дрогнула всем своим холеным крупом, испуганно фыркнула и махнула в воду, увлекая за собой и вторую кобылицу. Повозка подпрыгивала на подводных камнях, ее заносило течением. Но сильные, разгоряченные лошади влекли бричку за собой. Рассвирепевший Кузьмич, привстав, не переставая сек их. Сидевшие на повозке Пинчук, Камушкин и Пилюгин, не понимая причины этой внезапной ярости безобиднейшего старика, с изумлением следили за ним. На блестевших спинах лошадей вспыхивали молнии от беспорядочных и злых ударов кнута.
— Ты сказывся чи що? — не выдержал Пинчук, когда лошади уже вынесли повозку на противоположный песчаный и отлогий берег. — Ось я возьму кнут да тебя потягаю им, старого биса! — пригрозил он тяжело дышавшему Кузьмичу.
На левом берегу оставался из разведчиков один Михаил Лачуга. Он ждал, пока его битюг напьется.
— Швыдче!.. — поторопил его старшина.
Труднее было переправить артиллерию. Первой вышла к реке батарея капитана Гунько. Петр, увидев на берегу полковника Павлова, подбежал к нему:
— Товарищ полковник, первая батарея прибыла к месту переправы!
Павлов не понял будто, для чего ему докладывают об этом. Он сердито посмотрел на Гунько.
— Там… там давно надо быть!.. — полковник махнул в сторону противоположного берега. Серые быстрые глаза его вдруг потеплели. — Ладно, начинайте переправу!..
Старый офицер Павлов до такой степени был влюблен в свою артиллерию, что, казалось, другие рода войск для него ничего не значили.
— Артиллерия все решает! — часто повторял он.
Артиллерийские офицеры любили своего начальника, хотя имели немалое основание быть в обиде на него: Павлов не баловал их чинами.
— Четвертый год в армии — и капитана тебе подавай!.. Нет, послужи еще, братец, послужи!.. — говорил он какому-нибудь командиру батареи, дерзнувшему намекнуть о повышении в звании.
Звание советского офицера для полковника Павлова было святыней, он очень строго относился к повышению в звании своих офицеров, кандидатов для этого отбирал придирчиво, не спеша. Поэтому присвоение очередного звания какому-нибудь уж особенно отличившемуся офицеру было событием не только в жизни этого офицера, но и всех артиллеристов части. Артиллеристы пользовались особой привилегией командования: туда отбирали самый крепкий личный состав. Павлов был суров со своими подчиненными, но вряд ли офицеры согласились бы по своей воле сменить его на другого начальника. Строгость Павлова, конечно, была хорошо известна и Гунько. Поэтому он с некоторым душевным трепетом готовился сейчас к переправе. Волнение капитана, должно быть, передалось и его солдатам.
— Начнем, товарищ капитан! — крикнул Печкин по возможности бодро и весело. — Давай заводи! — приказал он шоферам.
Тяжелый грузовик сердито фыркнул, выбросил клубы едкого, вонючего дыма и осторожно пополз к воде.
— Газуй сильней, а то застрянешь! — звонким девичьим голосом крикнул командир расчета, маленький Громовой, стоявший на подножке. — Газуй, Федя!..
Федя нажал, что называется, на всю железку. Тягач взревел и на полной скорости помчался вперед, гоня перед собой зеленый водяной вал. Но вот стальное сердце машины «зашлось» от быстрого бега, заработало с перебоями, мотор зачихал, захлебнулся и смолк. Это случилось как раз на середине реки. Расчет мгновенно спрыгнул в воду; над рекой понеслось такое знакомое русскому трудовому люду, подбадривающее, объединяющее несколько сил в одно общее усилие:
— Раз, два — взяли!.. Еще… взяли!..
— Давай, давай, солдаты, поднажми!.. Ну, орлы!.. — кричал с берега полковник Павлов, подрагивая правым плечом больше обычного. — Давай!..
Это «давай!», поминутно выкрикиваемое в разных местах, в различных тонах и с разной силой, подхлестывало солдат как кнутом. Они кричали, распаляя друг друга, раззадоривая и подогревая. Те, что стояли на берегу и не желали лезть в воду, вдруг бежали в реку и присоединяли свою силу к усилиям многих и тоже кричали, как позволяла только глотка: «Давай!»
Румыны, преодолевая страх, выходили из своих бункеров и издали с неудержимым любопытством наблюдали за необычайными действиями этих непонятных и удивительных людей. Одни говорили: «Что же это?.. Что же будет теперь?.. Куда они идут?.. Как жить будем?..» Другие — тихо, с испугом, оглядываясь, не осуждают ли, — невольно шептали: «Витежь!»[40]
От реки катился и плескался неумолчный гул. Смех, незлобивая брань, крики «давай, давай!», стук колес — все это сливалось в какую-то- стройную, торжествующую музыку, наполнявшую сердца странно-беспокойным и вместе с тем добрым чувством к этим барахтавшимся в воде бронзовотелым людям.
Первые машины были вытащены на руках. Но почти на том же самом месте застряла третья, со снарядами в кузове. Она быстро погружалась, засасываемая песчаным дном. Снарядам грозила опасность. Солдаты облепили машину со всех сторон.
— Взяли!.. И-и-и-ще — взяли!.. Раз, два — взяли!.. Бойцы пьянели от собственных криков и усилий. На помощь артиллеристам спешили пехотинцы.
— Давай! Давай! — кричали всюду, взвинчивая, возбуждая и взбудораживая себя.