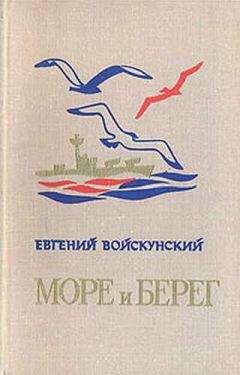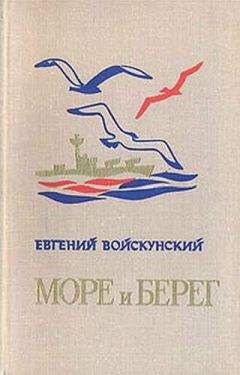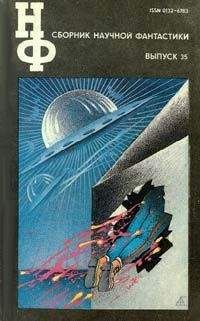Евгений Войскунский - Кронштадт
— Ой, верно! Вот я живу совсем без радости. Раньше хоть плавала на барже, то тут, то там, солнышко в море встречала. А теперь? Расписываю сводку да сижу на телефоне. Никакой радости.
— Какая уж тут радость, на таком жестком предмете сидеть…
Что я несу (ужаснулся он)? Чушь какая… зачем?.. А, все равно…
Лиза охотно смеялась его шуточкам, уж какие они там ни были, и Иноземцев, хмелея, все больше ощущал зов в ее глазах и смехе. Его рука легла на ее круглое колено. Лиза тотчас накрыла его руку своей и крепко сжала.
Около десяти часов, простившись с молодоженами, гости высыпали на улицу, выметенную морозным ветром. Иноземцев взял Лизу под руку, она вопрошающе взглянула и сказала:
— Проводите меня, Юрий Михайлыч.
Он шепнул Слюсарю, что будет у Лизы, — мало ли что, вдруг тревогу объявят ночью, так чтоб знали на корабле, где он.
— Давай, давай, Юрочка, — напутствовал его Слюсарь. — Не подкачай!
Мела поземка. По темным безлюдным улицам Иноземцев пошел с Лизой и остался у нее до утра.
Толя Мешков давно прослышал, что у Речкалова есть книжка «Князь Серебряный». И очень хотел прочесть. Мешков особенно любил книжки про старину. Ему было интересно узнавать, как раньше жили люди. Но никак не удавалось добраться до этой книги: то другие добывал в заводской библиотеке, то речкаловский «Князь» оказывался на руках.
А тут вдруг в столовке, за ужином, подходит к нему Речкалов и говорит:
— Ты, что ль, у меня «Князя Серебряного» просил? Могу дать.
Мешков наскоро закончил еду, ребятам сказал, чтоб не ждали его, и пошел с Речкаловым к нему на квартиру. Речкалов шагал быстро, будто подгоняло его что-то. Мешков — руки в карманах, плечи зябко подняты — поспешал за ним трусцой. Скрипел под сапогами свежевыпавший, наметенный обильной метелью снег. Молчать всю дорогу казалось Мешкову неудобным, он принялся рассказывать, как сегодня при сборке получилось: угольники-флоры после правки растянулись и дыры перестали совпадать — пришлось снизу брать ломиком, иначе болты не шли, а потом обжимать…
Речкалов коротко промычал в ответ. Что бы это значило? Может, «молодцы». А может, «не морочь мне, братец, голову». Ладно, решил Мешков, буду и я молчать.
Повернули на Зосимова, вошли в подъезд, Речкалов отомкнул дверь. А в квартире скандал. Две женщины — одна седоватая, коротко стриженная, вторая молодая — орут друг на дружку.
— Видишь? Видишь? — указывала та, что постарше, на мокрое пятно на двери своей комнаты. — Опять нас…!
— А вы его не задирайте! — кричала молодая. — Он больной!
— Больной, так клади в больницу! А я хулиганства больше не потерплю! Вызову милицию, составим акт…
— Вы не стращайте! Ишь какая — акт составим! Коля! — устремилась молодая к Речкалову, попытавшемуся было бочком пройти в свою комнату. — Коля, скажи ты ей, чтоб не задирала отца!
— Да будет вам ругаться, — пробормотал Речкалов.
Поскорее отпер свою дверь, пропустил Мешкова в комнату.
— Надоели, — ворчал, вешая пальто на гвоздь у двери. — Только и знают гавкаться… Раздевайся.
— Николай Ефимыч, я, может, пойду?
— Как хочешь… Вот книжка. — Речкалов взял с самодельной полочки и сунул Мешкову обернутую в газету книгу.
И опять, опять перед глазами тот вечер… те оглушительные слова… извиняющееся лицо… Вовек теперь от этого не отвязаться… Он пришел на Аммермана и не застал никого, ни Нади, ни Лизы. Маялся с час на холодной лестничной площадке. Голоса внизу, смех, шаги по скрипучим ступенькам — вот они обе пришли, веселые. «Ой, Коля, ты ждешь, а мы с теть Лизой ходили бурки примерять. Какие хорошие!» Вошли. Еще мысль такая была: что-то произошло, уж больно веселы обе… И другая мысль: хоть бы эта тетка… тетка ее подкурятина… смылась куда-нибудь… Надя протянула книжку: «Спасибо, Коля, я прочитала. Очень хорошая книжка». Еще бы не хорошая… Тут Лиза из комнаты шмыг на кухню. Он к Наде: «Нам поговорить надо». А она — брови кверху, улыбка не улыбка, словно прощения хочет просить… и эти слова: «Коленька, я перед тобой очень виновата… Ты пойми… Пойми… Пойми…» А он и понял сразу. «Что, опять этот появился, командир „Гюйса“?» Она закивала тысячу раз — и вдруг: «Мы решили пожениться». Всего-то три слова…
— Николай Ефимыч, — слышит Речкалов голос будто издали, будто с другой планеты. — Если хотите, я у вас посижу немного…
— Что?
Мешков с испугом смотрит на Речкалова. Днем, на работе, не обратил внимания, а сейчас впервые заметил, как изменилось лицо Николая Ефимовича: на нем будто одни хрящи и кости остались, туго обтянутые задубевшей темной кожей, и странно выперли скулы. А глаза были как будто невидящие.
— Я у вас посижу немного, — повторяет Мешков. — Можно?
— Сиди.
Речкалов машинальным движением опускает черную бумажную штору и зажигает свет. Потом садится на кровать и берется за сапог, но не стягивает его — будто вдруг забыл, что надо делать дальше. Застыл в неудобной позе, задумался.
Возле печки-времянки Мешков замечает несколько обрезков грязной доски. Тут же и колун. Присев на корточки, Мешков тюкает колуном, потом сует наколотые дрова в черный зев времянки, щепок накладывает. Спрашивает у Речкалова спичек.
— Что?
Опять пугается Мешков невидящего речкаловского взгляда.
— Николай Ефимыч, что с вами? Николай Ефимыч!
Речкалов моргнул, глаза прояснились.
— Чего ты орешь? — спрашивает. — Спички? На.
Теперь он внимательно следит, как Мешков разжигает времянку. А когда Мешков выпрямляется, Речкалов оглядывает его с головы до ног и говорит, щурясь:
— Сколько в тебе роста?
Мешков пожимает плечами. Отродясь он не мерился. Знал всегда, что рост у него маленький.
— А ну, а ну! — Речкалов встает плечом к плечу с Мешковым. — Гляди, как подрос! Был мне по плечо, а теперь мы почти одного роста. Вымахал! — Он хватает Мешкова железной рукой и поворачивает лицом к свету. — Гляди-ка, и усы пробились!
Ущипнул за черный пушок на мешковской верхней губе. Мешков отпрянул:
— Да вы что? Больно!
— А-а, больно! — со злой ухмылкой говорит Речкалов. — А другим не больно? Мне, думаешь, не больно?
— Николай Ефимыч, я лучше пойду…
— Куда? В казарму свою вшивую? Никуда не пойдешь! Сиди!
Мешков сел на табурет, проворчав:
— Вшивая! Ничего не вшивая… Давно их повывели…
— Вымахал, вымахал… — Речкалов наклоняется к нему. — Ах ты, скелет с глазами! Безотцовщина ты моя окаянная! — Вдруг взял Мешкова за щеки и поцеловал. — Чего ты тут расселся, а?
— Так я пойду…
— Ишь, прыток! Уже и поговорить не хочешь? Думаете все, так вашу так, что для Речкалова только один разговор годится, про болты да угольники? А больше на него и слов не надо тратить? Эх вы…
Он ходит по комнатке, по узкому пространству между койкой и стеной, и облезшие, давно не крашенные половицы скрипят под его сапогами. Как зверь в клетке кружит (подумал Мешков, вспомнив фразу из какой-то книжки).
— Чего вы напустились? — говорит он, шмыгнув носом. — А вы меня, кроме как о болтах и кницах, о чем-нибудь спрашивали?
Речкалов останавливается против него и медленно кивает:
— Верно… Верно, Толя… Не спрашивал… — Садится на кровать, не спуская с Мешкова немигающего взгляда. — А ты расскажи мне, Толя, чего-нибудь…
— О чем?
— О чем хочешь. Только не про железо. Про железо я сам все знаю. Ты мне свою жизнь расскажи.
— Да какая у меня жизнь? — Мешков подкидывает дров в быстро прогорающую времянку и снова садится на табурет, свесив руки между тощих колен. — У меня жизнь всего-то три строчки… Отца не помню, а мама померла, когда мне было четыре года. В голодное время. А я не помер, меня мамин брат забрал из деревни к себе. В Смоленск. Он милиционер был, многодетный. Я у них жил, пока не вырос. Росту у меня не было, а годы подошли, дядькина жена говорит: «Устраивайся, хватит чужой хлеб есть». Я и устроился. В ремесло поступил в Питере, при заводе имени Жданова. Кончил ремесло — нас в Краков. Вот и вся жизнь.
— Вся жизнь, — повторяет Речкалов, будто вслушиваясь в эти слова. — Ты вот что… всю жизнь не пускай по железу, Толя…
— Это как?
— Нельзя, чтоб человек был зажатый, как заклепка в стальном листе. Опять не понимаешь? Эх, — горько вздыхает Речкалов. — Слов мне не хватает. Плохо это, Толя! Это ж беда! Одним ремеслом не достигнешь, Толя! Слова человеку нужны! Теперь понял? — И вдруг: — Хочешь мне быть братом?
— Как это?
— А так! В отцы не гожусь, а в братья старшие — а? Давай, Толя! — Речкалов вскакивает и рывком поднимает Мешкова с табурета. — Мы с тобой оба — безотцовщина, нам врозь нельзя… Ну? Будешь мне брат?
Мешков смущенно улыбается:
— Не знаю, Николай Ефимыч… А для этого что надо?