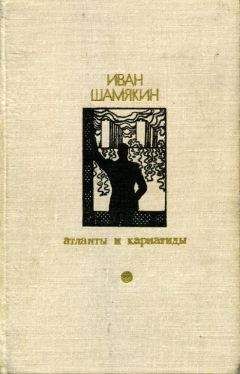Иван Шамякин - Зенит
— Надя! Надечка! Сестричка моя! Живи! Живи! Прошу тебя. Прошу.
Обливал девушку слезами, не очень умело перевязывая поверх окровавленной сорочки, чтобы зажать рану, остановить кровь.
Кажется, она что-то говорила, кого-то звала — по побелевшим губам видел, но ничего не слышал.
— Надечка! Победа же! Победа!
Поил ее водой из фляжки, вода выливалась назад окровавленная. Кровь… Кровь… Всюду кровь. Окровавленные бинты, гимнастерка, юбка. Кровь на лице. Казалось, кровь заливает и меня: из сапога поднимается все выше — к животу, к груди, к шее… вот-вот хлынет в рот; во рту уже горько и солоно. Я потерял сознание. Надолго? Ненадолго? Никто потом не мог мне это сказать. Пришел в себя оттого, что меня поднимают. Нет, скорее оттого, что услышал знакомый голос своего строгого начальника — Тужникова. Действительно, это был он. Но совсем иной, чем обычно.
— Павлик! Дорогой ты мой товарищ! Как же это ты? Почему не забрал тебя на КП? Ах, беда…
Светало. Низко в небе горело красное облако. А в зените — ни облачка. Зенит — синий, таким он бывает только на рассвете.
Двое санитаров положили меня на носилки. Но я закричал:
— Возьмите ее! Возьмите ее! Надю! Поняли — около меня не нашли.
Любовь Сергеевна — какое жуткое видение! — стала перед Надей на колени, взяла ее руку. Потом поднялась и накрыла ее белым маскхалатом. Почему белым? Не зима же. Повернулась ко мне, печально вздохнула, сняла пилотку. Почему мне пригрезилась Пахрицина? Чужой врач, старший лейтенант. Ее вид вернул меня из небытия. Но когда потом понесли, в небе поплыла кровавая река.
10
Во второй половине майского дня по госпиталю как вихрь пронеслась весть: гитлеровская Германия капитулировала. Кто-то из врачей, знавших язык, услышал передачу английского радио.
После овладения Берлином капитуляции фашистской армии ждали со дня на день. Тяжело раненные, прикованные к постелям, встречали утром сестер и врачей не приветствием, не просьбой — вопросом: «Ну, как там?» И все понимали, что их интересует.
Казалось, недельное ожидание и уверенность, что важное событие вот-вот свершится, могло бы притупить реакцию. Нет. Слово «капитуляция» влетело вихрем, весенним сквозняком через двери, окна, во все большие палаты и подняло на ноги всех, кто мог без посторонней помощи сползти с кровати. Лежачие настойчиво просили ходячих найти врача, который первый услышал, привести его любыми уговорами, а нет — так силой: пусть подтвердит, пусть расскажет — где, когда?
Всего два дня, как мне позволили ходить на одной ноге, на костылях, и только на своем этаже. На лестницу — ни в коем случае. Но тут я не посмотрел на запрещение и с неожиданной для себя прытью поскакал подбитым зайцем по широкой лестнице на первый этаж и дальше — во двор: узнал, что в хозяйственном корпусе дают трофейные приемники. Вымолил и я какой-то приемничек, попросил бойца-санитара занести на третий этаж. Столпились вокруг него. Ловили Москву.
Москва передавала торжественную музыку Глинки, Чайковского, Шостаковича. И никаких сообщений даже в то время, когда неизменно который год шло «От Советского Информбюро». Нарушение программы передач предвещало новость, ожидаемую с таким нетерпением, что некоторые раненые довели себя до нервной лихорадки. Просили у сестер валерьянку, а те угрожали отобрать приемник.
— Немецкие станции лови! Немецкие!
Немецкие станции молчали. Ловили всю Европу. На шведском или финском языке, который никто не понимал, звучало слово «капитуляция». Ясно, капитулировали. Но почему молчит Москва? Это тревожило, но успокаивали каждый себя и друг друга: готовится выступить сам Сталин, а он никогда не спешит, он обдумывает каждое слово, приказы его как песни, политработники легко выучивали их наизусть.
На свист приемников явно кто-то пожаловался — тяжелораненые или медперсонал. Палаты обошел заместитель начальника госпиталя по политчасти, по приказу которого приемники раздали. Пригрозил их отобрать, если будем ловить чужие станции.
Переключились на Москву, приглушили звук. Никогда, наверное, с таким вниманием не слушали офицеры-фронтовики классическую музыку.
Я стоял у широкого окна, смотрел, как за деревья парка садится солнце. Каштаны и липы уже в зелени молодой листвы. Она закрыла зенитки, вижу только одну, нацеленную в небо, свою родную — третьей батареи.
Оперировали мою ногу в полевом госпитале. Сюда привезли ночью. Узнав на следующий день, что нахожусь в Ландсберге, я очень обрадовался. Лейтенант Балуев, раненный в плечо, в тот же день сказал:
— Вон, младший, твои пушки стоят.
— В каком мы госпитале?
— В каком-то их техническом училище.
Так это же рядом с нашей третьей батареей! Знал я этот госпиталь, много раз проходил мимо по дороге с третьей на вторую батарею.
Попросил санитара сходить к нашим сказать, что я здесь.
На следующий же день навестили Тужников и Колбенко. Потом Кузаев с Антониной Федоровной. Потом снова она с Марией Алексеевной. Данилов пришел хмурый, похудевший. Он один не порадовал — испортил настроение, спросил зло:
— Твоя работа — перевод Лики на третью?
— Что ты, Саша! Слова никому не сказал.
— А кто?
— Ты думаешь, Кузаев не догадался о причине твоего….
— Заткнись. — Он оглянулся на моего соседа по кровати: стыдился слова, которое я мог произнести.
Я перешел на шепот:
— Антонина… знаешь какая сваха. О каждом знает. Всех девчат готова выдать замуж.
— Окружились бабами — сами бабами стали. — Кто?
— Ты — первый.
— А ты?
— Да и я, идиот. Нужно было и мне, как Масловскому. Завидую ему. И Жмур твоей. Она — цыганка, а не я — цыган. Слюнтяй детдомовский!
Сжал его руки:
— Не сорвись, Саша. Не сорвись.
— Теперь уж не сорвусь. Перегорело, — грустно пообещал он.
Женя Игнатьева приходила почти каждый день. Товарищи по палате шутили:
— Младший, чем ты так притягиваешь девчат? Поделись опытом.
Женю полюбили. Она навещала не одного меня — всех. Многих никто не мог посещать — их части штурмовали Берлин. Женино умение всем подарить улыбку, книгу из гомельской библиотеки, веточку сирени, найденный в парке сморчок трогало раненых. Она успевала каждому поправить постель, почитать, поговорить. Ее звали «сестричка». О ней говорили: «Вот — идеал милосердной сестры, а наши задубели уже». Госпитальные сестры ревновали к Жене, хотя не отваживались выставить ее из палаты — опасались нашего бунта. Да и помощи ее не могли не ценить.
В тот день никто не пришел ко мне. И я встревожился, особенно когда сразу не увидел пушек, так за сутки сгустилась листва. Нет, потом рассмотрел третью пушку — сержанта Рогового. Старую липу расщепило молнией или бомбой, и образовалась прогалина. Через нее я смотрел на пушку весь день.
Кроме той, необычной, непомерно великой радости, которую ожидал весь народ наш, вся Европа, была у меня в тот вечер собственная маленькая радость — я проверял свои силы: раз пять спустился вниз и поднялся на верхний этаж, штурмовал лестницу, как шутили мои соседи.
Но была и печаль, общая, всего этажа. Лежали там люди, видевшие тысячи смертей, некоторые сами умирали не однажды. На войне привыкают к смерти, в госпиталях — особенно. Правда, я попал в счастливую палату: за три недели умерло всего двое. В те дни весельчаки, острословы понуро молчали.
В госпиталях хоронят в гробах. Кто-то из наших сходил в мастерскую и вернулся угнетенный: сколько там делают гробов! Правда, траурная музыка звучала всего один раз — хоронили генерала. От раненых скрывали смерти. Старались скрыть и безнадежных, но на всех смертников отдельных палат не хватало. Милда Юркане лежала в отдельной палате. Однако о ней знал весь госпиталь. Оперировал разведчицу здесь, в Ландсберге, повторно главный хирург фронта, приезжал из Познани. Посещали ее генералы. Весь персонал госпиталя, от нянек-немок, от поваров до хирургов и все раненые, кто пролежал здесь хотя бы два-три дня, встречали утро вопросом: «Как Милда?» Набожные «деды» молились богу за нее. Но тяжелее было третьему этажу, она была рядом, и хотя к ней не пускали, мы, ходячие, заглядывали. Да нередко замечали и сестер, тех сестер, что видели-перевидели за войну все человеческие муки, выходивших из ее палаты в слезах.
Про Милду рассказывали легенды. Латышка, она досконально знала немецкий язык. И умела перебираться через самый плотный фронт с легкой короткодистанционной рацией. Передавала данные, корректировала огонь артиллерии. Запеленгованная немцами, несколько раз вызывала огонь на себя. Под Кенигсбергом ее нашли под развалинами дома контуженую, но живую. Очутилась она за вражескими позициями и в день прорыва на Одере. Ее захватили на Зееловских высотах. Озверевшие эсэсовцы не убили разведчицу — садистски отсекли груди, уши, пальцы рук. Но когда они убежали при приближении советских танков, у Милды хватило сил выставить через решетку балкона свои окровавленные руки. Их увидели танкисты.
![Георгий Гуревич - В зените [Приглашение в зенит]](/uploads/posts/books/68105/68105.jpg)