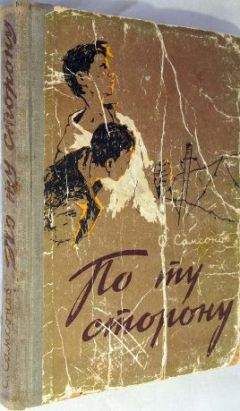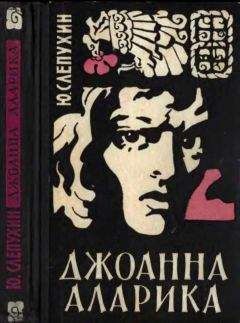Юрий Слепухин - Тьма в полдень
Кто знает сегодня имя убийцы Архимеда? А ведь, наверное, каким всемогущим победителем чувствовал себя этот римский воин, когда под его мечом упал безоружный старик, обливая кровью свои чертежи...
И остаются не только знания, не только великие открытия; на земле остается всё: и любовь, и нежность, и доброта. Война убивает тело человека, но разве в этом главное? Говорят, что первыми гибнут лучшие, и приводят это как доказательство бессмысленности подвига; но разве в этом его смысл? Ведь тот, кто гибнет, прикрыв грудью другого, хотя бы и менее достойного жить, передает людям эстафету любви и самопожертвования, и поэтому нет бессмысленных жертв. Всякая жертва осмысленна уже тем, что на какую-то единицу увеличивает сумму разлитого в мире добра и тем самым делает лучше все человечество вместе и каждого отдельного человека. Потому что каждый человек – это частица человечества, неотделимая от него, пока живет, мыслит и чувствует. Лишь в момент смерти происходит отделение, и даже тогда истинная, бессмертная человеческая сущность не умирает вместе с телом, но растворяется среди тех, кто продолжает жить. И самая жестокая война, самое страшное оружие не в силах изменить этого закона.
Однажды Болховитинов предложил ей сходить вместе в церковь – послушать пасхальную заутреню. «Православное церковное пение изумительно красиво, – сказал он, – у католиков нет ничего подобного. Право, вы не пожалеете». Таня согласилась – даже не из любопытства, а просто потому, что был такой чудесный апрельский вечер, ясный и теплый, и ей не хотелось сидеть дома. Володя тоже собрался было идти с ними, но потом передумал и отправился играть в шахматы с Кривошипом. А они долго шли окраинными улочками, и когда добрались наконец до кладбища, где была единственная действующая в Энске церковь, то оказалось, что там уже столько народу, что попасть внутрь нет никакой возможности.
Может быть, проберись они туда, Таня восприняла бы все совсем иначе; может быть, ее смутила бы или отвлекла незнакомая обстановка и она не почувствовала бы ничего, кроме любопытства, и еще, наверное, чисто физического неудобства от давки и духоты. Но они остались снаружи, перед распахнутыми дверьми церкви, которая вся жарко светилась изнутри огоньками множества свечей и их отблесками на чем-то золотом и мерцающем, а здесь была теплая апрельская ночь и огромная, молчаливая толпа.
Таня украдкой посматривала по сторонам, – вокруг нее стояли женщины, в основном пожилые, но виднелись и помоложе. Видно было, что каждая пришла сюда со своим горем. Таня не понимала, почему именно от церкви ждали они какого-то утешения, но чувствовала, что они ждут его и, наверное, даже получают. Ее же собственное состояние было очень странным.
Она, по-видимому, сама того не сознавая, подчинилась тому общему настроению, которое обычно возникает в большом скоплении людей, охваченных единым душевным порывом. Она никогда не интересовалась религией и была ей чужда, не думала она о ней и сейчас; но не подчиниться тому, что было разлито в воздухе вокруг нее в эту минуту, было невозможно.
Что-то незапамятно древнее слышалось ей в протяжном, печальном пении женского хора, которое доносилось из открытых дверей церкви вместе с пряным запахом сладковатого ладанного дымка. Этот необычный запах, и эти древние песнопения, и скорбь на лицах стоящих рядом с нею женщин – скорбь, которая была общей и для них, и для нее, и для миллионов других женщин, молились ли они в эту минуту в таких же церквушках по ту сторону фронта, или работали в цехах военных заводов за Уралом, или стояли у операционных столов, – все это пронзило ее вдруг до самой глубины сердца, и она чувствовала нестерпимую боль и жалость, потому что думала в этот момент не только о Сереже и Дядесаше, но и о всех тех миллионах солдат, делящих с ними их ратный труд; в это же время – и это было главным – она испытывала ни с чем не сравнимое, радостное до слез сознание своей причастности ко всему ее окружающему. Она не была больше «немецкой пособницей», от которой отвернулись все знакомые; здесь ее никто не знал, здесь она была среди своих, среди родных, среди народа, плотью от плоти которого она себя ощущала...
Она стояла в этой толпе и думала о том, сколько сотен лет собираются вот так в церквах простые русские женщины, когда в стране беда. Так же стояли и молились они, когда Наполеон вел на Москву свои «двунадесять языков», и когда Минин и Пожарский собирали ополчение, и когда ратники Дмитрия Донского шли на ордынцев; и всякий раз, как воск перед огнем, таяли и исчезали бесследно силы войны и смерти – будь то татары или французы, поляки или немцы. Десять веков стояла Русь, гибла и снова – смертию смерть поправ – восставала из крови и пожарищ; разве не было это проявлением того же закона торжества жизни?
Возвращаясь домой уже под утро (комендантский час был снят на эту ночь), Таня молчала всю дорогу. Ей было очень трудно определить чувства, овладевшие ею там, в толпе женщин. Это не имело никакого отношения к религии, чуждой и непостижимой; это имело отношение ко всему тому, что было ей близко и понятно, – к России, к войне, к жизни и смерти. Она словно увидела вдруг что-то необычайно важное, самое главное – и в то же время настолько простое, настолько само собою разумеющееся, что теперь казалось странным, как можно было не видеть этого до сих пор. Как можно было придавать такое значение своим маленьким личным бедам, – какими ничтожными казались они теперь перед лицом огромной общей беды...
Ее личные беды были реальны и невыдуманны, ей действительно было трудно и страшно; смерть висела над нею как дамоклов меч, – смерть не в бою, а в застенке, что гораздо хуже, – и знакомые отвернулись от нее с презрением, как от немецкой пособницы. И все же она была не одинока, она была лишь одной из многих, крошечная частичка России.
Прошло несколько дней, но это новое чувство не ушло, а стало еще глубже и осмысленней. Переполненная им, Таня теперь почти не думала об опасности. Она понимала, что может погибнуть в любой момент, более того – она была почти уверена в том, что группе не избежать провала. Однако эта мысль уже не вызывала в ней прежнего смертного отчаяния: Таня теперь чувствовала, что это не так страшно. Человек, гибнущий за правое дело, не исчезает бесследно и бесполезно, он, в сущности, бессмертен, если бессмертен народ, если бессмертна Россия...
Примирившись с главным, Таня была бы почти спокойна теперь, если бы не Болховитинов.
Отношения между ними оставались такими же неопределенными. Таня давно уже видела, что он ее любит. Разобраться же в собственных чувствах она пока не могла, но разобраться было необходимо. Может быть, любила уже и она, – если только можно любить одновременно двоих и если любовь может быть такой разной в каждом случае.
А может быть, это и не было любовью? Ее чувство к Болховитинову совсем не походило на то, что она испытывала к Сереже; думая о Сереже, она вспоминала его губы, тосковала по его рукам, она думала о нем так, как если бы он был частью ее самой. Ничего подобного не испытывала она в отношении Болховитинова.
Он был для нее скорее другом – старшим другом, у которого всегда можно найти совет и защиту. В то же время Таня нисколько не заблуждалась насчет того, каким горем оказалась бы для нее разлука с Болховитиновым. Однажды он сказал, что в фирме ожидаются какие-то перетасовки персонала: одних хотят перебросить отсюда на Балканы, других прислать взамен из Германии или Польши, – она услышала это и сама испугалась той леденящей пустотой, которая разверзлась перед нею при мысли, что Болховитинов может уехать. Потом она долго пыталась убедить себя в том, что все дело в ее одиночестве. Но одним только одиночеством этого было не объяснить.
Она заставила себя прийти в ту аллею, где произошло их объяснение с Сережей в первый день последнего учебного года. Скамейка была разломана на топливо, от нее остались лишь два изогнутых чугунных кронштейна. Таня присела на один из них и спрятала лицо в ладони. Здесь, на этом месте, она не могла лгать ни Сереже, чье незримое присутствие было для нее в эту минуту почти реальностью, ни собственному сердцу.
Сережа верил ей, как самому себе. Болховитинов считал ее воплощением всех добродетелей. «Ты как уголь в тлеющей золе, ты, как верность, светишь сквозь измену», – прочитал он ей однажды чьи-то стихи, и это было как объяснение в любви. Они оба ее любили, а она обманывала обоих.
Может быть, строго говоря, обманом это и нельзя было назвать; но тогда это было балансирование на грани обмана, трусливое и нерешительное. Лучше уж просто обман! Болховитинов любил ее, зная, что у нее есть жених. На что он рассчитывал – на то, что новое чувство окажется сильнее старого? Очевидно. Но ведь это налагало на нее обязанность сказать в конце концов «да» или «нет». Сказав что-то, она обманула бы одного; не говоря ничего, она никого не обманывала и в то же время лгала обоим.