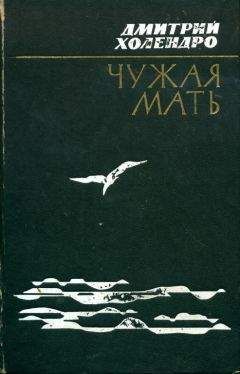Дмитрий Холендро - Избранные произведения в двух томах. Том 1 [Повести и рассказы]
И вдруг — Леля! И приглашение. Не когда-нибудь, а когда тетка уйдет. Дня три он переждал, боясь, что моментально ему не повторят увольнительной в город, и еще день — от наново проснувшегося смущения. Попробуй не растеряйся. При воспоминании о встрече с Лелей в нем крепла уверенность, что его разыграли, и он поделился своей новостью, уже похожей на приключение, с товарищем, который был ближе всех, потому что спал на первом этаже их двухэтажного станка для спанья, второпях сколоченного из неоструганных досок. К тому же он был не только самый близкий товарищ, но и чуть старше.
Не перебивая, без улыбки он послушал, выдымил самокрутку и дал короткий совет:
— Ты возьми ей подарок какой. Посолидней. Нынче, из-за войны, они тут все не знай на чем и как живут. Война, брат, не шутка, а серьезное дело.
Узнал, как зовут девушку, как выглядит, и прибавил слова, наградившие Гену душевным волнением:
— Похоже, и ты ей понравился!
— Какой же подарок взять? — спросил Гена, и воображение нарисовало глаза Лели еще огромней, чем они были, хотя уж дальше некуда. — Мне ничего не жалко, но ведь и нет ничего!
— А хозяйственное мыло? Ценная вещь! И нам выдали как раз. Возьми свои полкуска, а там обойдемся, выручу, в баню или чего по-быстрому стирануть…
В комнате с диваном, гладко закинутым клетчатым, голубым и желтым байковым одеялом, горела лампа, словно Леля ждала все эти четыре дня подряд.
— Вот, — сразу отдал свой подарок Гена, и Леля развернула газетный лист и почти восхищенно воскликнула:
— Ой! — и, повертев перед своими глазами внушительные полкуска мыла, к радости Гены повторила: — Ой!
Она побежала, наверно, на кухню, подумал он, чтобы спрятать мыло, а потом — точно, увидел его там, а сейчас Леля крикнула на бегу:
— Садитесь! — и показала на диван.
Но он остался стоять в своих тяжелых, пахуче начищенных ботинках и старательно, как никогда, ровно навернутых обмотках, дождался, когда она с улыбкой, будто бы из-за нее сглатывая какую-то нелегкую слюну, появилась во внутреннем проходе старенького, но чистого дома, и тогда сел, а она мигом приблизилась и села, так тяжко дыша, что он даже удивился, вроде бы она носилась на другой конец света, а не в кухню по соседству. Села и прижалась к нему. Как к человеку, которого сто лет знала и столько же не видела, считая дни, но теперь он вернулся. Так они посидели минут десять, показавшихся Гене целой вечностью еще потому, что оба молчали.
— Ты издалека? — вдруг спросила Леля.
— Нет, не очень, — он назвал свой город.
— Завидно, — сказала Леля. — Люди рождаются и растут в больших городах. Вокруг техникумы, институты даже, разные предприятия, большая жизнь, выбирай, что хочешь. Я росла и ненавидела свой город. Вырасту — уеду. А выросла — и вот тебе, никуда! Оказывается, люблю.
— Тетю?
— И тетю, и город. На следующий год собираюсь в Ворошиловград, в техникум, а после вернусь. Надо же и в маленьких городках, неизвестных, кому-то жить…
И опять — долго, опять — вечность без слов.
Впервые Гена сидел с девушкой так близко, светловолосая голова Лели, причесанная попросту, надвое, касалась его плеча. Что делать? Растерянность охватывала его все губительней. Покосившись, он увидел ее закрытые глаза с полукружиями ресниц, темных, густых и длинных.
— Что же ты молчишь? — поинтересовалась Леля.
— У меня мысли нехорошие, — неожиданно для себя признался он.
— Очень? — насмешливо спросила она.
— Страшно.
— Ох! Первый раз пришел в гости вот так, один на один? Ну?
Гена молчал, боясь, что ответ уронит его в хозяйкиных и собственных глазах, и только несколько раз покивал головой, коротко остриженной под машинку. И, наклонившись к Леле, ткнулся в ее бледные губы. Вроде бы небрежно, просто так. Но, затронутый этим, потрясенный, наклонился еще ниже к ее приподнятому лицу и прямо впился в ее узкие губы. Почему же Леля не отвечает на его крепкий поцелуй?
— Леля!
Но Леля не отвечала, не слышала.
Едва он выпрямился, она откинула голову, а когда разнял руки, она отвалилась вся и упала на диван, как без сознания.
— Леля! — стал звать он. — Леля!
И легонько тряс за плечо.
— Леля! — кричал он. — Леля!
И дергал за тонкую руку все сильнее. Но рука оставалась неживой, потому что Леля, и правда, была без сознания.
Он стоял на коленях перед диваном и старался услышать, дышит ли она. Потом вспомнил, как это можно проверить. Он вытащил из брюк свое карманное зеркальце, прихваченное с собой, чтобы посмотреться, перед тем как переступить порог этого дома. Ожидалось необычное свидание, чего лукавить…
А вон как пригодилось дурацкое это зеркальце! Долго держал перед ее лицом, перед губами, и оно все запотело. Фу-у! Он немного пришел в себя и поверил, что способен сделать что-то и один в чужом доме. Отчего Леля потеряла сознание? От больного сердца? От больных легких, которым он так грубо перебил дыхание? Тогда у нее где-то должны быть припрятаны лекарства. Где?
Схватив лампу, Гена побольше вывернул фитиль, чтоб лучше светил, и застучал ботинками к буфету, занимавшему середину стены напротив дивана. Распахнул настежь дверцы — верхние, с узорчатыми стеклами, и нижние, сплошные. Ничего, кроме посуды.
Открыл дверь соседней комнаты. Пятно желтоватого света легло на две тумбочки у кроватей, заглянуло внутрь. В одной — три — четыре книги, и больше ничего, в другой — пусто, если не считать комка нижней рубашки. Свет обшарил стены — никакой аптечки. Она, может быть, на кухне. Скорей туда. Но и тут ее не видно. Плита — холодная, беззаботная охапка дров у топки, а в двух кухонных толстопузых шкафах — кастрюльки, сковородки, немного посуды попроще, на каждый день, его кусок мыла в газете и много пустых полок. Совсем пустых.
Он вернулся в гостиную. Леля сидела на диване, молча и печально смотрела на него. Сказала:
— Мы с тетей сегодня ничего не ели. Да и вчера. В общем, третий день.
И тогда он вспомнил пустые полки в буфете и в кухонных шкафах, словно опять увидел их. На них не было ни крошки. Мог бы догадаться, отчего Леля потеряла сознание. Не от его крепкого поцелуя. Не от больного сердца. От голода. Не догадался. А еще военный! Она продолжала молча смотреть на него, будто умоляла простить за то, что у нее не хватает сил на слова. А он смотрел на нее, понимая, что лицо ее не такое уж тонкое, а худое.
— Сиди, — сказал он, — я сейчас.
В прихожей поспешно натянул на себя шинель, а перепоясался и шапку нахлобучил уже на улице, где прибавилось снега, на бегу. Он принес ей свой ужин в котелке, взятый и оставленный товарищем, разогрел на огне, расплясавшемся в кухонной печурке на охапочке дров, мелких, но сухих, и накормил Лелю. Пшенной кашей с мясом и маслом. И хлебом.
— Ну, я пошел, — сказал он, ополоснув пустой котелок и думая, что сошлется на увольнительную, которая вот-вот окончится, если Леля начнет оставлять.
Но она так и не вымолвила ни слова.
На обратном пути он думал, что ничего не бывает даром, на всем можно чему-то учиться, умнеть. Он понял, что этого нельзя делать без любви. Любили бы — не получилось бы такого. Он все знал бы про нее, а чего не знал, она сказала бы, не постеснялась. Любимые — они ведь как родные, а то и больше.
И еще он понял, что война — действительно дело серьезное. И не только потому, что придет весна и повалят танки какого-то генерала Клейста, чтобы перебить и пережечь которые — потребуется год. Не только.
1985
За подвигом
Дул ветер. Дул? Нет, рвался с моря! С посвистом, с визгом, похожим на визг стремительно летящей стальной ленты. Здесь ничего не могло помешать ему, не за что было даже зацепиться по пути. Он выгонял волны на песок огромной косы и еще долго нес за собой маленькие дожди брызг. Трубы нескольких солдатских землянок возле мокрых осиротелых причалов были вывернуты и катались, отброшенные, в колючках бурьяна и лужах морской воды, похрупывая прогоревшей жестью. Было тоскливо. И так пусто, так безжизненно пусто кругом, точно все здесь вымерло навсегда.
Тем задиристей, веселей и беспощадней напирал ветер на одинокую фигурку в шинели. Она вызывающе торчала там, где море, грохоча, расшвыривая грязную пену и песок, переходило в степь.
Было трудно дышать из-за песка и ветра. Лейтенант Белов смотрел, как на морских горбах однообразно и бессмысленно качаются суденышки, как настойчиво пытается ветер сорвать их с тощих якорей, и думал, что сегодня ему не удастся переправиться через пролив.
Там, за проливом, сиренево темнела крымская земля. Песчаный ободок у какой-нибудь высотки иногда вспыхивал под нечаянным и недолгим солнечным лучом с неправдоподобной четкостью. Потом небо снова хмуро заплывало, и берег за проливом потухал и отдалялся.
![Дмитрий Холендро - Избранные произведения в двух томах. Том 2 [Повести и рассказы]](/uploads/posts/books/134563/134563.jpg)