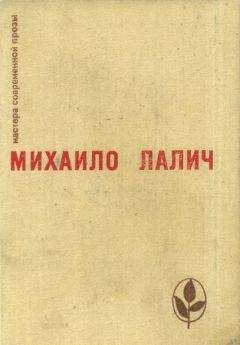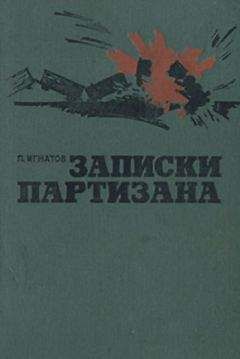Михаило Лалич - Облава
— Ты помнишь, что мне обещал?
— Помню. Прости, пожалуйста, я сейчас.
— Хоть полпути мы прошли?
Он поднял веки и сказал:
— Тут где-то должен быть лес, а его нет. Сам не знаю почему.
— Лес перед нами. Землянка в лесу или за лесом?
— Нет, где-то тут близко.
Пошли. Им казалось, что они идут быстро, но они все время спотыкались и все больше выбивались из сил. Их увидел дозорный, выбежали люди из землянки. Ладо никого не узнавал, а его откуда-то знали все — называли по имени, о чем-то беспрестанно спрашивали и удивлялись, что он не отвечает. Их было много, и все походили друг на друга, как братья, лица настырные, зубы острые, голоса неприятные. Наконец всех перекричал Шако: «Погибли, нет их больше, земля…»
Вошли в землянку, а Шако все называл имена, от которых прошлое заколыхалось, вернулось и встало перед глазами. Ладо рухнул на утрамбованную землю возле мешка муки и котлов. На него больше никто и не оглядывался: залетная птица, незваный гость — только в тягость. Ладо не удивился, он и самому себе в тягость. От теплого воздуха, водоворота голосов, сетований и воспоминаний ему стало совсем плохо.
Прошло наконец и это, и воцарилась, точно мрак, мертвая тишина поражения. Утихли люди — пни на порубке в тумане, немое пустынное корчевье. Только старый Йован Ясикич от горя не может найти себе места, бродит в тумане по корчевью — все его дети погибли. Согнулся, глаза мечут молнии — невыносимо ему смотреть на людей, которые вдруг превратились в пустынное корчевье. И, внезапно выпрямившись, он кричит:
— Что же это такое?.. Что за мертвечина! Чему вы удивляетесь? Или вы думаете даром выигрывают сражение? Те, кто погиб, знали, что даром это не дается. Они мертвы, им сейчас легко, а живым надо жить и продолжать их дело. Ну-ка, люди, вставайте, довольно плакать! Снимайте с них обувь, облепите им ступни илом, чтобы не остались калеками? Пусть выпьют что-нибудь теплое с сахаром, раны надо осмотреть. Ну-ка, ну-ка, слезами и стонами не поможешь! Пусть каждый делает свое дело, а я возьмусь за свое!
Он взялся за гусли — это было его дело, — сел и провел смычком по струнам. Он заставил их рыдать вместо себя и всех других; заставил их прийти в ярость и захлебнуться от угроз и наконец заговорить ясным человеческим голосом:
Грозна туча на солнце надвинулась,
Мрак черный на лес навалился…
Тем временем Ахилл Пари, начальник карабинеров, в кожаной куртке и таких же штанах, мчал на мотоцикле с надетыми на колеса цепями, чтобы не скользить по скверным дорогам. С рассвета он искал трупы убитых коммунистов, а они, точно живые, все время от него ускользали. У Рико Гиздича он ничего не узнал; Груячич, который даже не участвовал в боевых действиях, тоже не знал ничего. И только Алекса Брадарич навел его на след: Пашко Попович, милиционер из Старчева, чудаковатый старик, собирал мертвых, но что с ними сделал — неизвестно… Брадарич предложил срочно вызвать Пашко; Пари не согласился: слишком долго ждать; и чтобы ускорить дело, поехал сам. По дороге он наткнулся на грузовик, окруженный толпой, как это обычно бывает. Люди уступили ему дорогу, думая, что он приехал для расследования, а он промчался мимо, оставив их с открытыми ртами. Прибыв в Старчево, Пари Поповича дома не застал — Пашко уехал на лошадях в Тамник незадолго до того. Пари решил, что сани взяты для того, чтобы перевозить мертвых, обрадовался и, желая как можно скорей догнать его, заторопился. На крутом подъеме ниже Старчева он спешился и повел мотоцикл до моста, на мосту сел на него снова и с ревом и треском под собачий лай въехал в село.
Возле дома Филиппа Бекича стояли сани, но, к удивлению Пари, на них лежало всего два трупа. А когда оказалось, что это не трупы, а больная женщина и подозрительный рыжебородый тип, Пари растерялся окончательно. В Пашко Поповиче он узнал зачинщика сумасшедшей драки, затеянной на вершине Рачвы. Он тут же заметил, что борода у него не такая, как у других, а лопатой, поповская, и тотчас заподозрил в нем скрывающегося попа, или по меньшей мере — знахаря. Поманив его пальцем, он заставил его сойти с саней. Измученный бессонной ночью и лихорадкой, Пашко принял карабинера за дьявола, охотника за душами; нехотя сойдя с саней, он, спотыкаясь, побрел по снегу.
— Где мертвые? — спросил Пари.
— В земле, — ответил Пашко. — Где же им еще быть?
— Как в земле? Почему в земле?
— Таков обычай: умерших предают земле.
Пари посмотрел на Шелудивого Графа, который сидел на санях, и велел ему проехать несколько шагов вперед; он хотел поговорить без свидетелей, без рыжей бороды и белесых ресниц, которые его почему-то злили. Легче говорить без свидетелей, люди становятся скромней, когда остаются с глазу на глаз с начальством.
— Я спрашиваю о коммунистах, — сказал он.
— Какая разница — и они люди.
— Надо их немедленно выкопать из земли! Сегодня же, и всех!
— Ничего не выйдет, их и тронуть не посмеют.
— Это приказ командования.
— Бог повыше командования. Церковь не разрешает, закон божий, крест! — И он рукой начертил на снегу крест, чтобы объяснить и одновременно защититься от нечистой силы. Собравшись с духом и осмелев, Пашко посмотрел ему в глаза и подумал: «Узнаю тебя, меня не проведешь. Тебя послала сюда Злая Нечисть, ты приказчик Князя Тьмы.
«Когда князь бесовский увидел, как нечестивые хватаются за сладкие веточки, которые буйная непогода посбивала с чудодейственного дерева, когда увидел великий вред и убыток ему нанесенный, он направил бурю на юг, а под дерево поставил приказчика, дабы тот собирал веточки, упавшие с дивного дерева. Когда нечестивые пришли и спросили, где чудесные, придающие силы веточки, приказчик стал продавать их за деньги, чтобы иметь от дерева корысть. Этого требовал Князь Тьмы, потому что дерево росло на его земле и портило его ниву. Когда стало известно, что плоды чудодейственного дерева продаются за деньги, грешники повалили толпами и раскупали их…»
— Ты хочешь сказать, ваша церковь защищает коммунистов? Так?
— Нет, не надо под меня подкапываться!
— И что их защищает бог, так ведь ты сказал?
— Церковь защищает могилы. Все, что лежит в могиле, становится неприкосновенной святыней.
— Для дураков, — сказал Пари и тотчас раскаялся в своих словах.
Ему показалось, что он ввязался в религиозный спор, а его уже несколько раз предупреждали, чтоб он избегал всяких споров с упрямыми попами и муллами о мечетях, церквах и святых. Поняв наконец, что и кладбище и покойники в какой-то мере принадлежат к этой, запретной для него области, Пари попытался схитрить.
— Кто их хоронил? — спросил он.
— Крестьяне, народ.
— Где их похоронили?
— Кого здесь, кого там — по разным кладбищам.
— Кто дал разрешение хоронить?
— Командир батальона. Вот его подпись.
Пашко извлек из обшлага шинели две бумаги и протянул ту, где стояла подпись итальянского майора с бородой. Пари жадно схватил ее, три раза подряд прочел и обрадовался: ему надоела эта езда по кочкам от села к селу, по снегу, трухлявым мостам без перил, сейчас можно с этим покончить. Вместо убитых коммунистов он представит полковнику эту бумажку — пускай он сам договаривается с попами и церковными законами, которые он так чтит. Согнув бумажку пополам, он сунул ее в карман.
— Отдай, — крикнул Пашко, протягивая руку. — Это мое, мне дали!
— Домани![68] — сказал Пари, и его губы искривила улыбка.
— Не хочу я домани, отдай сейчас же! Я не знаю, куда тебя черти унесут еще до ночи.
— Завтра, завтра, — осклабя зубы, бросил Пари и завел мотор.
И тут только Пашко заметил, что сани с больной исчезли.
Шелудивый Граф воспользовался первым удобным случаем, чтобы избавиться от угрюмого старика с бородой и винтовкой и остаться наедине с беззащитной молодой женщиной. А когда Ахилл Пари дал ему знак отъехать, он воспринял это как перст судьбы, которая угадала его желание и предоставила ему возможность удовлетворить его. Он с давних пор привык ладить с ней — и никогда не колебался и не терял времени, когда судьба оказывала ему знаки внимания. Шелудивый имел дело с разными женщинами; одни были старые и апатичные, другие молодые, но некрасивые; воспоминания о некоторых связях были настолько отвратительны даже ему, что хотелось вытеснить их из памяти чем-то другим. Чего у него никогда не было и чем ему именно поэтому страстно хотелось обладать — так это женщиной, которая не поддается, царапается, кусается и неистово защищается от мужчины, как от несчастья и позора. Ему иногда рассказывали о таких женщинах, о том, как трудно ими овладеть, и о том, как потом бывает хорошо; рассказывал и он, даже показывал царапины, но все это было вранье, и все знали, что он врет. Лишь однажды ему не сказали, что он врет, но на то были политические причины, — женщина, о которой он рассказывал, была партизанкой. А по сути дела с партизанками ему очень не везло, — взятых в плен или тотчас расстреливали, или передавали итальянцам в лагеря, другие же сразу попадали под защиту влиятельных родственников, кумовьев или друзей, которых всегда было достаточно.