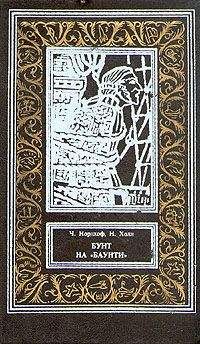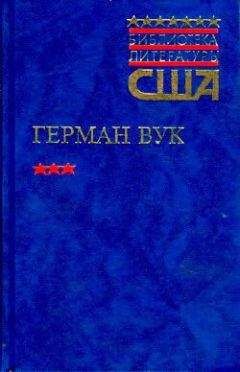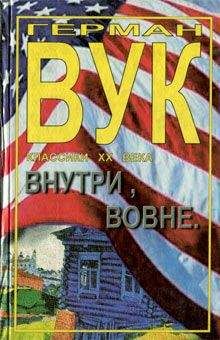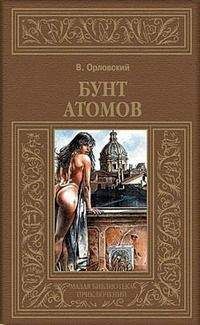Герман Вук - Бунт на «Кайне»
Гринвальд, увидев на лице Марика недоуменную и недоверчивую улыбку, пожал плечами.
— Я говорю так, потому что знаю. Романы выходят уже сейчас, хотя война еще не закончилась. Я перечитал их все, какие только вышли. Мне нравятся те, в которых автор ругает военных и показывает, насколько выше их мыслящие и тонко чувствующие люди гражданских профессий. И я им верю, потому что сам такой же, мыслящий и впечатлительный гражданский человек. — Он снова попробовал затянуться сигарой, но скривился от отвращения и швырнул ее в большую медную пепельницу, наполненную до половины песком.
— Как вы курите такую гадость? Ну так вот что я вам скажу, Марик. За всем этим делом стоит ваш чувствительный друг писатель. Он главный зачинщик, это бесспорно, но нам от этого не легче…
— Я не хочу его вмешивать, — упрямо повторил Марик.
— Придется. Что до меня, то я сделаю все, чтобы его не вызывали даже в качестве свидетеля. То, что вы сделали — вы сделали. От этого не уйдешь. Лучше, если это будет вашей собственной ошибкой, сделанной из лучших побуждений, а не по подсказке и наущению вашего друга, писателя, а заодно и психолога. О намерении вовремя уйти от ответственности он, кажется, предупредил вас еще на «Нью-Джерси», не так ли? Он проницательный человек, ваш друг писатель. Распускать слухи о струсившем капитане за его спиной и придумывать разные прозвища, правда, удачные, ничего не скажешь, — это одно, а вот в открытую — это уже другое дело… Он знал, чем это может кончиться.
— После всего, что я вам рассказал, — как-то просительно, по-детски сказал Марик, — вы, значит, тоже не считаете Квига психом?
— Нет, не считаю.
— Значит, мое дело дрянь, — дрогнувшим голосом произнес он.
— Не обязательно. Скажите мне вот еще что. Как получилось, что вам все же разрешили провести тральщик в пролив Лингайен?
Марик облизнул губы и снова отвел глаза в сторону.
— Это важно?
— Не могу сказать, пока не услышу ответа на свой вопрос.
— Во всяком случае, все это было чертовски странным. — Марик вынул из нагрудного кармана новую сигару. — После тайфуна, когда мы вернулись в Улити, выяснилось, что тральщик порядком потрепало. Повреждена труба, потеряны два трала, пострадало кое-что из оборудования и приборов на главной палубе. Но тральщик не потерял ход, мы могли тралить. — Адвокат поднес ему зажженную спичку, и старпом раскурил сигару. — Спасибо… Когда мы ошвартовались, я тут же сошел на берег, чтобы доложить коммодору, кажется, из Пятой эскадры судов обслуживания. Я рассказал ему все, как было. Он заволновался и в то же утро вызвал на берег Квига и направил его к главному врачу. Ну а результат был такой — этот толстый старикан с четырьмя нашивками и красным носом заявил, что не считает Квига психом. По его мнению, он нормальный и неглупый офицер, может, только несколько переутомился. Но он все же не дал Квигу разрешения вернуться на тральщик. Сказал, что, поскольку он сам не психиатр, а Квиг четыре года в море, его лучше отправить в Штаты на полное освидетельствование специалистами. Коммодор чертовски на меня обозлился — я был у него, когда доктор все это докладывал. Коммодор заявил, что адмирал мечет гром и молнии, требует срочной посылки как можно большего числа тральщиков в пролив Лингайен, что тайфун порядком потрепал флотилию, и никто не позволит «Кайну» прохлаждаться в гавани в такое время. После долгих препирательств с врачом он вновь вызвал Квига и долго объяснял ему, как нужны сейчас адмиралу тральщики, а потом вдруг спрашивает, можно ли доверить мне командование тральщиком, чтобы я повел его в пролив Лингайен. Он просил Квига поставить интересы флота выше личных чувств и обид, а что касается меня, то я свое получу сполна, как только вернусь из похода. И тут капитан прямо-таки удивил меня. Держался он тихо, спокойно, а коммодору ответил, что за те одиннадцать месяцев, что я был у него помощником, он так натаскал меня, что, несмотря на нарушение присяги и мой паршивый характер, он может рекомендовать меня, и я с заданием справлюсь. Вот как все это было.
Гринвальд закончил вертеть в руках канцелярскую скрепку, из которой успел смастерить что-то похожее на вопросительный знак, и запустил ее в открытый иллюминатор салона.
— Где сейчас Квиг?
— У себя дома, в Фениксе. Медицинская комиссия признала его годным к службе. Пока временно он в распоряжении КОМ-12. Сидит и ждет трибунала.
— Он допустил ошибку, дав вам рекомендацию. Для себя ошибку, если он хочет, чтобы вас засудили.
— Да, верно. Как вы думаете, почему он это сделал?
Адвокат встал, потянулся, и стало видно, как далеко в рукава уходят шрамы, изуродовавшие кисти его рук.
— Может, он решил последовать совету коммодора и поставил интересы флота выше своих. Я, пожалуй, сейчас вернусь в КОМ-12. Надо прочистить мозги Джеку Челли.
— А что мы будем говорить на суде? — Марик с тревогой посмотрел на адвоката.
— Вы не признаете себя виновным. Ведь вы почти герой на нашем флоте. Ну, до скорой встречи.
32. Вилли Кейт получает отпуск
Вилли Кейт летел в Нью-Йорк. Капитан Брэкстон рекомендовал новому капитану тральщика «Кайн» лейтенанту Уайту отпустить Вилли домой.
— У парня есть десять дней до начала судебных заседаний, — сказал юрисконсульт. — Пусть бедняга слетает домой, пока можно. Кто знает, когда ему это еще удастся.
Вилли нужен был отпуск лишь для одного: он решил объясниться с Мэй и разорвать их отношения.
В последние, полные бурных событий месяцы он настолько преуспел в критической переоценке собственных поступков и мыслей, что стал понимать, насколько отвратительно вел себя по отношению к Мэй даже в письмах. Его чувства к ней оставались прежними. Если любовь означает то, что о ней пишут в романах и стихах, то он, должно быть, любит Мэй. И вместе с тем где-то в подсознании таилась мысль, что ему не удастся побороть с детства впитанные предрассудки и он не отважится жениться на Мэй. Конфликт, тоже хорошо знакомый из литературы, и ему было грустно и досадно, что в реальной жизни он угодил именно в эту ловушку. Однако он прекрасно понимал, что жертвой создавшихся обстоятельств будет Мэй, а не он, и потому решил дать ей полную свободу, до того как начнется суд, а за ним новые и непредвиденные повороты в его судьбе. Он мог бы написать ей письмо, или же, наоборот, совсем перестать писать ей, но теперь это казалось уже невозможным. Он непременно сам должен увидеться с Мэй и мужественно выслушать все, что она скажет, какую бы боль это ему ни причинило. С тяжелым сердцем летел он домой.
Он попытался отвлечься и завел разговор с соседом, лысым толстым литературным агентом, сидевшим в кресле рядом. Но тот оказался из тех путешественников, которые предпочитают преодолевать воздушные пространства во сне. Поначалу он, правда, откликнулся и стал выяснять у Вилли, много ли японцев он лично убил, был ли ранен, имеет ли награды, но вскоре потерял интерес и стал рыться в своем портфеле. В это время самолет попал в болтанку над Скалистыми горами, и агент вынул флакончик с таблетками, проглотил сразу три и выключился. Вилли пожалел, что не захватил с собой фенобарбитал. Наконец, ему ничего не оставалось делать, как последовать примеру соседа. Он задернул шторки иллюминатора, опустил пониже спинку кресла, закрыл глаза и погрузился в безрадостные мысли о том, что произошло на тральщике «Кайн».
Из снов, которые снились ему в детстве, лишь немногие он помнил, но один хорошо запомнился ему навсегда: Господь Бог, огромный и страшный, выскочил неизвестно откуда, поднялся выше деревьев на лужайке перед домом, а потом опустился вниз и стал разглядывать Вилли, словно букашку. Посещение следователя юридического отдела осталось в памяти Вилли как нечто столь же нереальное и пугающее, как страшный сон детства. Закрыв глаза, он видел зеленые тесные стены, шкафы, набитые толстыми сводами законов в коричневых с красным переплетах, резкий свет одинокой люминесцентной лампы под потолком, пепельницу у своего локтя, полную неприятно пахнущих окурков, и «следственную комиссию» в лице худого, невзрачного на вид, но полного самоуверенности капитана. Голос его был сух и насмешлив, а выражение лица — как у почтового клерка, которому пытаются всучить для отправки плохо упакованную бандероль.
Как все это было непохоже на то, чего мысленно ждал и на что надеялся Вилли. Как несправедливо, неожиданно и быстро все произошло, а главное, каким мелким и ничтожным все обернулось.
Вилли представлял себя актером великой драмы. Лежа в одиночестве на койке в своей каюте, сколько раз он повторял про себя: «бунт на „Кайне“, бунт на „Кайне“», пробуя эти слова на слух и на вкус! Он видел уже большую статью под этим заголовком в еженедельнике «Тайм», в похвальных тонах рассказывающую о геройском поведении Марика и Кейта. Он даже попытался представить обложку журнала с портретом Марика, а себя перед сонмом генералов и адмиралов за столом, покрытым зеленым сукном. С завидной выдержкой и спокойствием он доказывает им правомерность своих действий, подкрепляя свою речь неопровержимыми фактами. Одно из таких «сновидений наяву» заставляло его теперь корчиться от стыда. Он якобы главное действующее лицо бунта, его вызывают в Вашингтон к самому президенту Рузвельту для личной беседы, и он убеждает президента, что бунт на «Кайне» — это исключительный случай, и отнюдь не говорит о падении дисциплины на флоте. Он даже решает про себя, что если президент великодушно предложит восстановить его на службе в любой должности, он с достоинством ответит: «Господин президент, разрешите мне вернуться на мой корабль».