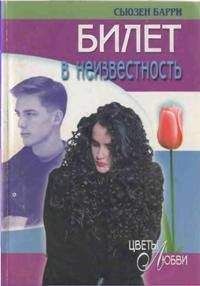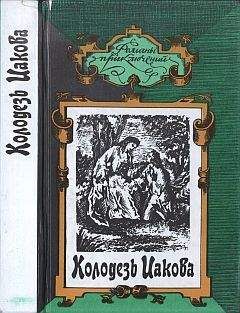Виктор Некрасов - В окопах Сталинграда
Сквозь пыльную витрину видно, как парикмахер в белом халате намыливает чей-то подбородок. В кино идет «Антон Иванович сердится». Сеансы в двенадцать, два, четыре и шесть. Дворник подбирает навоз в большой совок. Из черной пасти репродуктора на трамвайном столбе кто-то проникновенно, непонятно только кто, мужчина или женщина, рассказывает о Ваньке Жукове, девятилетнем мальчике, в ночь под рождество пишущем своему дедушке на деревню.
А над всем этим — голубое небо. И пыль… И тоненькие акацийки, и деревянные домики с резными петушками, и «Не входить — злые собаки». А рядом большие каменные дома с поддерживающими что-то на фасадах женскими фигурами. Контора «Нижневолгокоопромсбыта», «Заливка калош», «Починка примусов», «Прокурор Ленинского района».
Улица сворачивает вправо, вниз к мосту. Мост широкий, с фонарями. Под ним несуществующая речушка. У нее пышное название — Царица. Виден кусочек Волги — пристани, баржи, бесконечные плоты. Мы сворачиваем еще вправо и подымаемся в гору. Мы едем к сестре бывшего Игорева командира роты в запасном полку. «Золото она, а не женщина, — сами увидите».
Останавливаемся у одноэтажного каменного дома с обвалившейся штукатуркой и заклеенными крест-накрест бумажными полосками окнами. Белая глазастая кошка сидит на ступеньках и неодобрительно осматривает нас.
Игорь исчезает в воротах. Через минуту появляется — веселый, без пилотки и в одной майке.
— Давай сюда, Седых, заводи! — И мне на ухо: — Все в порядке. Как раз к завтраку попали.
Маленький уютный дворик. Стеклянная веранда с натянутыми веревочками. На веревочках что-то зеленое. Бочка под водосточной трубой. Сохнет белье. Привязанный за ногу к перилам гусь. И опять кошка, на этот раз уже черная, моется лапкой, нас зазывает.
Потом мы сидим на веранде, за столом, покрытым скатертью, и едим сверхъестественно вкусный суп из фасоли. Нас четверо, но нам все подливают и подливают. У Марьи Кузьминичны огрубевшие, потрескавшиеся от кухни руки, но фартук на ней белоснежный, а примус и висящий на стене таз для варенья, по-видимому, ежедневно натираются мелом. На макушке у Марьи Кузьминичны седой узелок, очки на переносице обмотаны ваткой.
После супа мы пьем чай и узнаем, что Николай Николаевич, ее муж, будет к обеду, он работает на автоскладе, что гуся прислал ей брат, — он все еще в запасном полку. Что если мы хотим с дороги по-настоящему умыться, то во дворе есть душ, только надо воды в бочку налить, а белье наше она сегодня постирает, ей это ничего не стоит.
Мы выпиваем по три стакана чаю, потом наливаем в бочку воды и долго с хохотом плещемся в тесном, загороженном досками закутке. Трудно передать, какое это счастье.
К обеду приходит Николай Николаевич — маленький, лысый, в чесучовом допотопном пиджаке, с чрезвычайно живым лицом и все время постукивающими по столу или перебирающими что-нибудь пальцами.
Он всем очень интересуется. Расспрашивает нас о положении на фронте, о том, как нас питают, и о чем думает Черчилль, не открывая второго фронта, «ведь это просто безобразие, сами посудите», — и как, по-вашему, дойдут ли немцы до Сталинграда, и если дойдут, то хватит ли у нас сил его оборонять. Сейчас все ходят на окопы. И он два раза ходил, и какой-то капитан ему там говорил, что вокруг Сталинграда три пояса есть, или, как он их называл, три обвода. Это, по-видимому, здорово. Капитан на него очень солидное впечатление произвел. Такой зря не будет «трепаться», как теперь говорят.
После чая Николай Николаевич показывает нам свою карту, на которой он маленькими флажками отмечает фронт. Металлической линеечкой меряет расстояние от Калача, Котельниково до Сталинграда, и вздыхает, и качает головой. Ему не нравятся последние события. Он очень внимательно читает газеты, — получает не только сталинградскую, но и московскую «Правду». Они у него все сложены в две стопочки на шкафу, и если Марье Кузьминичне нужно завернуть селедку, то приходится бегать к соседям, — эти газеты неприкосновенны.
Потом мы спим во дворе, в тени акаций, закрывшись полотенцами от мух.
Вечером мы собираемся в оперетту на «Подвязку Борджиа». Чистим во дворе сапоги, не жалея слюны.
На противоположном крылечке сидит девушка, пьет молоко из толстого граненого стакана. Ее зовут Люся, и она врач. Мы это уже знаем: нам Марья Кузьминична сказала. У девушки невероятно черные, блестящие, как две бусинки, глазки, черные брови и совершенно золотые, по-мужски подстриженные волосы. Легонькое ситцевое платьице-сарафан. Руки и шея бронзовые от загара. Игорь поворачивается так, чтобы держать ее в поле зрения.
— Совсем неплохие ножки, а. Юрка? Да и вообще…
Неистово плюет на щетку.
Девушка пьет молоко, смотрит, как мы чистим сапоги, потом ставит стакан на ступеньку, уходит в комнату и возвращается с кремом для чистки сапог.
— Это хороший крем — эстонский. Пожалуй, лучше, чем слюна, — и протягивает баночку.
Мы благодарим, берем крем. Да, он действительно лучше, чем слюна. Как новые, заблестят сапоги. Теперь не стыдно и в театре показаться. А мы что, в театр собираемся? Да, в театр, на «Подвязку Борджиа». Может, она нам компанию составит? Нет, она не любит оперетту, а оперы в Сталинграде нет. Неужели нет? Нет. А она любит оперу? Да, особенно «Евгения Онегина», «Травиату» и «Пиковую даму». Игорь в восторге. Оказывается, Люся училась в музтехникуме, — это еще до института было, — и у нее есть рояль. Оперетта откладывается до следующего раза.
— Зайдите к нам, мама чай приготовит.
— С удовольствием, мы так отвыкли от всего этого.
Сидя в гостиной на бархатных креслах с гнутыми ножками, мы все боимся, что они затрещат под нами — такие они хрупкие и изящные и такие грубые и неловкие мы. На стене беклиновский «Остров мертвых». Рояль с бюстиком Бетховена. Люся играет «Кампанеллу» Листа.
Две толстые свечи медленно оплывают в подсвечниках. Диван мягкий и удобный, с покатой спинкой. Я подкладываю под спину расшитую бисером подушку и вытягиваю ноги.
У Люси аккуратно подстриженный затылок. Пальцы ее быстро бегают по клавишам; вероятно, в техникуме она за эту быстроту всегда пятерки имела. Я слушаю «Кампанеллу», смотрю на Беклина, на гипсового Бетховена, на вереницу уткнувшихся друг другу в зад уральских слоников в буфете, но почему-то все это мне кажется чужим, далеким, точно затянутым туманом.
Сколько раз на фронте я мечтал о таких минутах: вокруг тебя ничего не стреляет, не рвется, и сидишь ты на диване и слушаешь музыку, и рядом с тобой хорошенькая девушка. И вот я сижу сейчас на диване и слушаю музыку… И почему-то мне неприятно. Почему? Не знаю. Я знаю только, что с того момента, как мы ушли из Оскола, — нет, позже, после сараев, — у меня все время на душе какой-то противный осадок. Ведь я не дезертир, не трус, не ханжа, а вот ощущение у меня такое, как будто я и то, и другое, и третье.
Несколько дней назад, где-то около Карповки кажется, мы сидели с Игорем на обочине и курили. Валега и Седых готовили ужин на костре. Мимо проходила артиллерийская часть — новенькая, идущая на фронт. Молодые, веселые бойцы, с красными от загара лицами, тряслись по пыльной дороге на передках, смеясь и перебрасываясь шутками. И кто-то из них, не то сержант, не то просто боец на сытой буланой лошадке, весело крикнул звонким, как у запевалы, голосом:
— Здорово окопались, господа военные. Ни пуля, ни мина не достанет…
И все заржали вокруг него, а он, батарейный заводила, еще подкинул:
— Самоварчик бы еще да вареньица…
И все опять засмеялись.
Я понимаю, что ни он, ни смеявшиеся бойцы не хотели нас обидеть, но, что и говорить, особого удовольствия эта шутка нам не доставила. Валега даже выругался и пробормотал что-то вроде того: «Посмотрим, что вы недельки через две запоете…»
Да, самое страшное на войне — это не снаряды, не бомбы, ко всему этому можно привыкнуть; самое страшное — это бездеятельность, неопределенность, отсутствие непосредственной цели. Куда страшнее сидеть в щели в открытом поле под бомбежкой, чем идти в атаку. А в щели ведь шансов на смерть куда меньше, чем в атаке. Но в атаке — цель, задача, а в щели только бомбы считаешь, попадет или не попадет.
Люся встает из-за рояля.
— Пойдемте чайку напьемся. Самовар, вероятно, уже закипел.
Стол покрыт белой, хрустящей скатертью с квадратами заглаженных складок. В хрустальных блюдечках густое варенье из вишен без косточек — мое любимое варенье. Мы пьем чай из тонких стаканов, не знаем, куда девать свои руки, огрубевшие, неотмывающиеся, в ссадинах и царапинах, с бахромой на обшлагах, и боимся накапать вареньем на скатерть.
Люсина мать, томная дама в черепаховом пенсне и стоячем, как у классных наставниц, воротничке, подкладывает нам варенье и все вздыхает, и все вздыхает.
— Кушайте, кушайте. На фронте-то вас не балуют, плохо на фронте, я знаю, мой муж в ту войну воевал, рассказывал, — и опять вздыхает. — Несчастное поколение, несчастное поколение…