Геннадий Семенихин - Лаврентьич
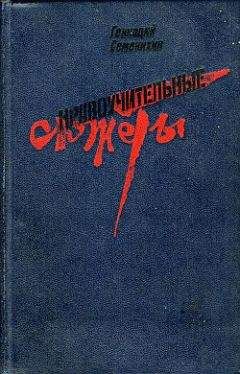
Обзор книги Геннадий Семенихин - Лаврентьич
Лаврентьич
Дивизия проиграла бой и отступала на прежние рубежи. В сумерках третий батальон дошел до старых своих позиций. В обгоревших шинелях понуро шагали бойцы и командиры по мокрой осенней хляби. У иных вместо касок на головах белели бинты. На опушке редкого леса, прикрытая сломанными ветками для маскировки, дымилась походная кухня, и кряжистый повар Иван Лаврентьич, которого все чаще называли просто Лаврентьичем, глядя из-под насупленных, чуть прихваченных сединой бровей, разливал в котелки густой кулеш, дурманно пахнущий сосновым дымком. Был он угрюм, глаза беспокойно пересчитывали подходящих к полевой кухне воинов и время от времени вопрошающе поднимались то на одного, то на другого солдата.
– А сержант Защипка где ж? – спрашивал он неуверенно и, когда раздавалось в ответ: «Отвоевался», опускал тяжелую голову. Двадцать пять человек из своей роты недосчитался в этот вечер повар Лаврентьич. Двадцать пять порций остались нетронутыми в котле. Двадцать пять паек хлеба и двадцать пять фронтовых наркомовских стограммовых порций водки. А когда тяжелой поступью удалился от полевой кухни последний солдат поредевшей роты, к Лаврентьичу подошел комиссар батальона с незнакомым человеком в тяжелой от дождя и грязи плащ-палатке и коротко попросил:
– Устрой, старшина Прасолов, младшего политрука. Он из нашей армейской газеты и тоже был на самом передке во время боя.
– Сделаю, товарищ старший политрук, – хмуро заверил Лаврентьич, словно дело шло о чем-то самом главном, и повел незнакомца к себе в землянку. Грязь уныло чавкала под их ногами. Вероятно, Лаврентьич думал только о погибших, потому что за всю дорогу не проронил ни единого слова. Лишь дыхание его, сиплое и неровное, доносилось до слуха младшего политрука, сероглазого паренька с хрупкими чертами лица и обтянутыми смуглой кожей скулами. Когда по узким скользким ступенькам они спустились в тесную землянку и батальонный повар зажег светильник, под который была приспособлена желтая артиллерийская гильза, юноша увидел два деревянных лежака с набросанными на них охапками соломы, вместо матраса, подушки с давно нестиранными пестрыми ситцевыми наволочками, грубо сколоченный стол с приставленной к нему табуреткой, небольшой портрет Сталина на стене.
– Занимай любой, – кивнул старшина на лежаки, – а я сейчас.
Вскоре он возвратился с двумя котелками в руках и бутылкой водки, деловито выставил все это на стол.
– Вот ешьте, тоже небось намаялись за день, – сказал он доброжелательно. – Водки можете употребить сколько хотите. Шутка ли сказать, двадцать пять порций осталось сегодня… и столько же матерей осиротело. При чадящем вздрагивающем свете гильзы младший политрук заинтересованно рассматривал хозяина землянки. Лаврентьичу на вид было за сорок. Равнодушно глядя на котелок с горячим пустым супом и бутылку водки, он горестно щурил бесцветные глаза. Лицо у него было грубое, будто вырубленное из серого камня, и на нем каждая морщина отчетливо выделялась. Над низким лбом жестким ежиком вставали уже тронутые сединой черные волосы. Рыхлый подбородок, плохо выбритый в этот день, и большие тяжелые кулаки, так не гармонировавшие со всем его добрым обликом. Лаврентьич налил водку в алюминиевую кружку и протянул своему гостю, а когда тот отказался, разочарованно пожал плечами:
– Это почему же, товарищ младший политрук? Столько горя повидали вы сегодня и отказываетесь. Надо бы за наших побратимов павших. Как зовут-то вас кстати.
– Замойский Павел Андреевич. Можете просто по имени, – последовал ответ. Лаврентьич удовлетворенно кивнул головой и более настойчиво повторил:
– Надо бы за погибших, Паша.
Младший политрук на мгновение задумался, и тонкие брови над его серыми глазами превратились в шнурок. Потом он встал, молча взял алюминиевую кружку и, не отрываясь, выпил до дна. Лаврентьич крякнул от удивления:
– Во, какой молодец! А теперь щедро закусывай, Паша, горячим кулешом. Ешь до отвала, и о них, о героях, помни. Это не беда, что мы вперед сегодня не продвинулись. Может, оттого и под Сталинградом наш гарнизон Паулюсу не сдается, что мы сюда подо Ржев столько силы нечистой отвели. Ешь, голубок, ешь. А как этот кулеш Родька Смоляков, сердешный, обожал. Всегда говорил: «Лаврентьич, подбавь трошки, больно ты виртуозно его готовишь». Миной ему голову снесло сегодня. А пэтээровца Ваню Трошкина танк гусеницами переехал… два он зажег, а от третьего уйти не удалось. Тот после ужина песню запевал и всегда одну и ту же: «Ах гармонь моя, гармонь, золотые планки». А Серега Пантюхов, его сегодня снайперская пуля взяла, бывало, от кухни отойдет, согнет калачиком ноги и, сидя, изволит котелок опустошать. Это он оттого подобную позу любил принимать, что в Средней Азии долго прожил, а там именно так ели. Эх, парни, парни, будто из сердца вас кто навек вырвал. – Заметив, что у гостя от усталости набок клонится голова, Лаврентьич участливо сказал: – А ты приляг, Паша, голубок, поспать. Вижу, с устатка валишься.
Замойский последовал его совету и, не раздеваясь, повалился на жесткую солому. Сколько проспал, он сказать бы не мог. Когда он очнулся, чадный фитиль по-прежнему коптился над гильзой и в землянке было горько от запаха светильника. Лаврентьич, подперев огромными ладонями виски, по-прежнему сидел за столом. Бутылка водки перед ним опустела. Увидев, что младший политрук открыл глаза, он непонятно усмехнулся, взял скрученную цигарку, набитую самосадом и прижег ее от светильника, отчего язычок пламени вздрогнул и тени заметались по голым стенам.
– Значит, ты из армейской газеты, Паша? А я вот папироску сейчас из вашей газеты покуриваю.
– Что? Не нравится? – зевая, поинтересовался гость.
– Да нет, – протянул Лаврентьич. – Газета что надо, она нам каждый день сводки приносит, а иногда три номера сразу приносят. Если в боях передышка, то как художественную литературу читаешь. И твою фамилию я помню. Интересные ты очерки пишешь. Даст бог, после войны и настоящим писателем станешь. Ты не удивляйся, парень, я ведь до войны много книг перечитал. Удивительного мало, ведь в самом «Савое» поваром работал. Хоть и не главным, но поваром. Только я не всех писателей люблю, даже самых великих.
– Интересно, – приподнялся на лежаке Замойский. – Каких же вы не любите, старшина?
– А многих, – махнул рукой Лаврентьич. – И Пушкина за «Евгения Онегина», и Гончарова за «Обрыв», и Чернышевского за «Что делать?», и Островского за «Грозу».
– Это почему же? – ошеломленно спросил младший политрук, потрясенный непонятной строптивостью фронтового повара. – Ведь это все глыбы какие бессмертные, боги, а не писатели!
– А разве я против, – пробормотал Лаврентьич, – конечно, боги. Только почему у них героинями одни ветреные бабы в главных произведениях… Вы мне назовите, товарищ младший политрук, хотя бы одну героиню, которая бы верной до гроба после первой любви оказалась. Татьяна Ларина, что ли? Или Вера Павловна из «Что делать?»? А? Одни измены, да и только.
– Но позвольте, – решительно возразил Замойский, – наши великие классики воспевали свободу любви, раскрепощенность русской женщины.
– А разве нельзя им было свободу любви совмещать с верностью, – упрямо возразил Лаврентьич. – Вот у меня перед самой войной жена к дамскому парикмахеру ушла, а как я ее любил, ни разу слова бранного не сказал, любое желание исполнял, как очумелый бросался, а она предпочла какого-то плюгавенького белобрысого франтика. Не, я с вашей логикой никак не могу согласиться. Извините меня, товарищ младший политрук.
Замойский собирался продолжить спор, но в эту минуту громкий голос посыльного с порога землянки выкрикнул:
– Старшина Прасолов, немедленно к комиссару батальона.
Привычно перекинув автомат через плечо, Лаврентьич поспешил в штаб. Комбата там не было. Комиссар батальона, осунувшийся и посеревший от бессонницы, тревожными глазами разглядывал карту района боевых действий, делал на ней пометки. Выслушав доклад старшины, не по-уставному ответил.
– А-а, Лаврентьич. Очень хорошо, что ты так быстро прибыл. Выспался?
– Не очень, – признался повар, – мы полночи с младшим политруком из армейской газеты спор вели.
– О чем же? – рассеянно спросил комиссар, продолжая разглядывать значки на карте.
– О классиках, о самых наших великих писателях и поэтах. Я несогласие свое посмел высказать.
– Какое же? – не поднимая головы, озадаченно осведомился комиссар.
– Почему они только тех женщин воспевали, которые были неверными в любви и своем супружеском долге, мужей и возлюбленных бросали, одним словом. По-моему, классики не правы.
Думавший о чем-то своем, комиссар неожиданно рассердился:
– Да иди ты к шутам, Лаврентьич. Мы никак не решим, сколько «сорокапяток» на прикрытие второй роты можем выделить, а ты со своей чепухой. Хотя постой, – закончил он более миролюбиво и даже улыбнулся при этом, – спорщик ты, видать, интересный. Вернемся из боя и на эту тему поговорим. Гм… А вызвал я тебя затем, чтобы кухня к девяти утра была подтянута к самой линии наших окопов. Надеюсь, в тот час мы уже в фашистских траншеях будем, и тем, кто штурмовал, ой как котелок с горячей кашей понадобится.



