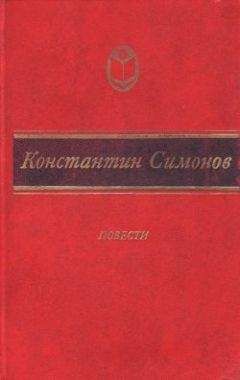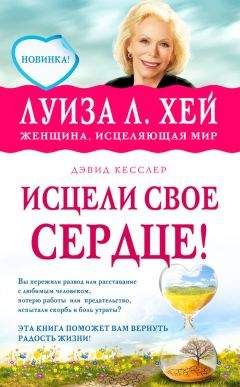Владимир Шапко - Счастья маленький баульчик
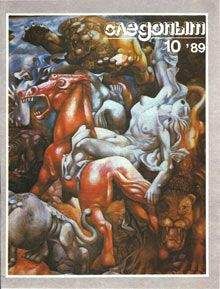
Обзор книги Владимир Шапко - Счастья маленький баульчик
Владимир Шапко
Счастья маленький баульчик
Повесть
Рис. Владимира Ганзина
…И опять был резкий, белый запах перевязочной, с леденяще-стерильным позвякиванием хирургических инструментов, с липким, замирающим ожиданием боли.
На своей руке он почувствовал холодные, боязливые пальцы сестры. Пошел за ней.
— Сюда, сюда, Ванечка, — помогала ему сестра. — Ноги, ноги спусти со стола…
— Галя, дай ему немного…
В нос ударил запах спирта, он приоткрыл рот, запрокидываясь, дал влить в себя из тряского, плещущегося стаканчика. «Ну чего она трясется каждый раз!» — успел подумать только с досадой, как опять услышал эти боязливые пальцы — они бегали вокруг него, разматывали бинты.
— Ну-ка, Галя, теперь я сам… — Он ощутил уверенные руки Марка Ефимовича — и дыхание остановилось. — Ничего, ничего, Ваня, не волнуйся… Так, так… На лице отличненько, отличненько. Что чувствуешь, Ваня?
— Холодно… От вашего дыхания…
— А-а! Потому что кожа, кожа, а не мясо!.. Так, а вот на шее… на груди… тут, брат, плохо. Струп снова плохой. Снова нагноение. Придется, Ваня, опять с бинтом сдернуть… Ну-ка, приготовься! Галя, придержи его…
Обеими руками он ухватился за край стола, напрягся. Ударила боль и отбросила сознание…
Словно вечность прошла. Вместе с неумолимым нашатырем жгучим, саднящим обручем подперло голову — и выдавило рассыпающееся сознание наверх; вздыбливаясь, он застонал. И в сплошную эту развороченную боль, студенисто-красно трепещущую на месте его шеи, его груди, быстрыми ножами била другая боль — сильней, непереносимей: Марк Ефимович торопливо чистил, обрабатывал рану.
— Терпи, терпи, Ваня, атаманом будешь… терпи… Галя, уснула?! Не видишь — заливает! Где у тебя тампоны, черт тебя дери!.. Так, так, сухни, сухни… и здесь… Молодец!..
Пылали, плавали в красном голоса соседей по палате. То приближались они, будто прямо в ухо кричали, то отдалялись, гасли:
— …ты смотри, беда какая! На перевязку — своими ногами, обратно уже на каталке везут. Бездыханного. Сколько может вынести человек. И через три дня опять пойдет…
— А толку-то?.. Кому он нужен такой?..
— Ну ты!.. Опять каркаешь?.. Жене, сыну — вот кому! Понял?!
— Хххы, жене, сыну… Это спервачка так. С горячки. А приедут, увидят его, да без бинтов — не то запоют…
— Врешь, гад! Она письма ему пишет! Она…
— Ну пишет… Ну прочел ты ему три письма — и что?.. Он тебе «спасибо» сказал — и все. А написать-то не попросил. И не попросит… Не-ет, он понимает: хана ему. Потому и молчит все время. Понима-ает…
— Заткнись лучше, падаль, пока… пока костыля не схлопотал!
— Но-но! Полегче на поворотах! О себе б не мешало подзадуматься. Как самого-то примут… Развоевался… Воин одноногий…
Замолчали, враждебно поскрипывая кроватями.
Он лежал не шелохнувшись. Услыхал тупой резиновый постук костылей, потом склоненное к нему лицо.
— Ваня, ну как ты, браток?
Он замер.
— Не взошел еще в себя, бедняга… — отодвинулось, отдалилось и опять тупо застучало от него.
Несильно уже, игольчатым эхом, все пожаливал память тонюсенький голосок: хана ему! он понима-ает! Хана-а!.. Ежедневный, дребезжащий, желчненько-издыхающий этот голосок от дальней стены палаты вызывал прежде, помимо злой беспомощной обиды, такой же молчаливый злой протест, несогласие: врешь, подлец, не кончился я! не хана мне! посмотрим!.. Но сегодня не задевали голоса соседей. Безразличны они ему стали. Противны. Противны их и человечные, и иезуитские слова. Хватит. Точка. Баста.
Глубокой ночью он долго ощупывал в уборной всхлипывающий под потолком сливной бачок. По болтающейся цепочке добрался до сырого осклизлого кольца с острыми незамкнутыми концами. Вывернул его. Оступившись на пол, торопливо стал засучивать рукав. Замер, вслушиваясь… С потолка, словно одна и та же, монотонно падала капля. Ударяла в плечо. Как подталкивала. И не было сил сдвинуться от нее, уйти, закрыться…
В дальней части коридора показался раненый на костылях. Настраиваясь по коридору, тощую ногу в вислой трусине переставлял с замедленностью нерешительного журавля, участвуя тихо костылями. Останавливался. По-птичьи выдвигая головой, вслушивался в темную, больную духоту из раскрытых дверей палат… Дальше нога плыла, осторожно ставилась.
Возле глухой узкой двери уборной покашливал, кхекал. Нерешительный, смущающийся. Деликатно, костяшкой пальца, постучал:
— Ваня, ты тута?..
Вдруг увидел кровь. Наползающую из-под двери. К ноге его. Откинулся назад, чуть не вылетев из костылей, закричал:
— Скорей! Сюда! Помогите!..
Не сводил глаз с пола. С окружающей его красной лужи. Зажмуриваясь, колотился в костылях:
— Лю-юди! Лю-ю-юди!..
1
Паровоз заревел — как бы с натугой раздвинул тесноту станции, — подумал немного и рванул состав. Эстафетой побежали, залязгали буфера, вагон дернулся и мимо поплыл длинней глухой пакгауз с перекрещенными кирками и лопатами на стене; застеснявшись, попятилась коричневая уборная с подбитыми окошками наверху — будто с «фонарями»; по перрону, точно назад, торопливо пошагали пассажиры с мешками, узлами, баулами и сидорами; тяжеленький вокзальчик красивой старинной кладки остался позади; пролетел пестрый торговый рядок; оборвался перрон и сворой железных собак к вагонам понеслись станционные стрелки. Замолотились испуганно вагоны — стряхивают, спинывают «зубастых», но поезд уже вырвался из станции, гуднул на прощанье и успокоенно застучал в широко открывшийся горный распадок.
Глаза Кати застлало слезами.
Митька строго посмотрел на мать — опять, мама! — он сидел напротив, у окна, прилежно положив руки на столик.
— Не буду! Не буду! — поспешно достала платок Катя и покосилась через проход вагона на закуток, где на двух нижних полках сидели четверо распаренных самогонкой солдат и клюкнувший с ними дедок с женой-старухой под боком, которая, поглядывая на мужа, уж очень неодобрительно сложила руки на полном животе.
Сквозь убегающую, шаловливую листву придорожных кустов в окна, в сумрак вагона весело плескалось закатное солнце. Но по другую сторону несущегося поезда, будто в другом — печальном солнце, развешанном по скалам, медленно закруживали вверх словно в красной скорби замершие кедры; тоскливо Катины глаза тянулись к ним, провожали.
А от веселой компании с бодреньким солнцем поплескивался голосок дедка: «…И вот этот Артура-маленький ну не сидит на месте — хоть что ты с ним делай! И пристает ко всем, и канючит, да игде пчелки, да игде улья? Хочу пчелок видеть — и все! А гости мои уже захорошели, им не до Артуры, отмахиваются от него самого ровно от пчелы. Ну я давай объяснять ему, мол, пчела сейчас злая (а дело было в самый медосбор, в августе, в начале), беспокоить ее, мол, опасно. А Артура уставился на меня исподлобья, дескать, нехороший ты! Да-а. А гости мои уже песню завели, плывут, как в лодке, раскачиваются. Вдруг этот Артура и говорит чего-то матери своей. На ухо. Та ко мне, дескать, где тута у вас?.. Да помилуйте, говорю, да где душе угодно! У нас тута, извините, сельская местность, природа как бы, так что пущай вон в кустики сбегает. А Артура как полоснет меня взглядом — и побежал в кусты. А за кустами-то, на взлобке, — пасека. Метров полста др нее. Но, думаю, не найдет. Проходит этак минут пять-десять, все нормально — гости знай поют, плывут себе дальше. Да-а. Вдруг, глядь, совсем из другого места выскакивает Артура — и понесся, и покатился по косогору. А из него рой пчел вихрями бьет. Мать честная! Вылетел на поляну — и юлой, и юлой на месте! Все варежки-то и раскрыли. А он: «Мама! Ма-ама!» — и кинься тут к столу, к взрослым, к матери! Рой за ним, и давай бить гостей моих! — Солдаты захохотали, разваливаясь на стороны. Удерживая смех, старуха забурлила как толстощекий самовар. А дедок, вытаращивая глаза, уже кричал: — Чего тут началось! Гости мои повскакали, стол опрокинулся — и понеслась пляска по поляне, и понеслась! Не помню, откуда дымокур у меня в руках очутился, бегаю, фукаю, пчел тушу и ору как скаженный: «В избу! В избу, черти! Скоря-а!» — Солдаты снова зашлись. — И пошли мои гостенечки один по другому, и пошли — аж избенка закачалася! Х-хе! Хех-х!»
Рыженький солдатик, подстриженный костерком, гнулся, переламывался, хохотал и все хотел до конца понять: да как же он? да как же? Артура-то? как все это? Х-хаак-хах-хах!.. Дедок подхехекивал и пояснял: «Так он, Артура-то, чертенок, возьми и ткни прутиком в леток, в улей-то — вота и понеслась душа в рай, а ноги к маманьке! Х-хе!» — «Ой, не могу! Ой, уморит!»
Во время рассказа старика Катя старалась не смотреть в сторону теплой компании, отворачивалась к окну, изо всех сил удерживая смех, но под конец не выдержала и смеялась вместе со всеми. Митька давно хохотал, взбалтывая ногами и запрокидывая голову. «Ну вот, и молодайку распотешили, — уже тихо и грустно сказал старик. — А то сидит, бедная, цельный день как убитая…» Обращаясь к Кате, громко, приветливо позвал их с Митькой в закуток. Чего одним-то там сидеть? Все вместе веселей! Но Катя покраснела и поспешно поблагодарила его. Отвернулась к окну.