Александр Великанов - Степные хищники
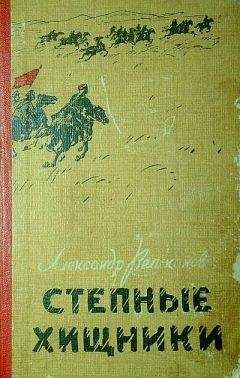
Обзор книги Александр Великанов - Степные хищники
Роман о людях, попавших в водоворот гражданской войны. Описывается зарождение, развитие и разгром банд Сапожкова, Серова, Вакулина, Попова и Маруси в Саратовской Губернии в период с лета 1920 года до весны 1921 года.
ru ru Trumpf http://flibusta.net ABBYY FineReader 11, FictionBook Editor Release 2.6, AlReader2, IrfanView 4.3 02 November 2011 67DB57C2-C46B-43DD-810D-696DBE93FB35 1.0 Степные хищники Горьковское книжное издательство Горький 1960 Редактор И. В. Сидорова Художник А. Д. Алямовский. Техн. редактор К. А. Захаров. Худож. редактор Л. И. Немченко. Корректор Т. И. Пелевина. Изд. № 3813. Подписано к печати 9/VI 1960 г. МЦ 02077. Бумага 84х1081/32— 17,25(14,14) печатных — 14,87 уч.-изд. листа. Тираж 15 000 экз. Заказ 5430. Цена 6 р. 95 к. Горьковское книжное издательство, г. Горький, Кремль, 2-й корпус. Типография изд-ва «Горьковская правда», г. Горький, ул. Фигнер, 32.Александр Великанов
СТЕПНЫЕ ХИЩНИКИ
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
САПОЖКОВЦЫ
Глава первая
ТРЕВОЖНЫЕ ВЕСТИ
На ранней заре уральская степь розовая, цвета молодой эльтонской соли, а перед закатом — сиренево-голубая, с нежными, словно сепией нарисованными, тенями. Темнеет здесь медленно, и кажется, что сверху садится на землю пыльная дымка. Перестают трещать кузнечики, стихает дувший весь день горячий ветер-суховей, ночная прохлада освежает истомленное зноем дело. Когда же в сутиски[1] зажгутся звезды, а у прудов, напитавшись мраком, разбухнут и встанут сплошной стеной раскидистые ветлы, — над хуторами, как острые? пики, поднимутся к небу верхушки стройных тополей, Последний раз за запозднившейся хозяйкой хлопнет дверь, на базах уляжется скотина, в чуткой дреме опустят головы степные маштаки[2], низкорослые, неутомимые в беге и злые, как черти. Лягут, вздохнут и бесконечно будут жевать жвачку нагулявшиеся за день коровы. Все угомонится после трудового, беспокойного дня. В эту пору не спится влюбленным да ширококрылые совы, как тени, носятся по воздуху в поисках добычи.
Хутор Гуменный затаился в полночной тиши: ни шелеста листьев, ни шороха травы. Только у плетня, отжавшего густой вишенник со стороны переулка, раздается приглушенный рокот мужского голоса да порой звенит девичий смех.
Коротки летние ночки, не переговорить всего того, что наполняет сердца влюбленных, в нежных объятиях не излить чувств, в горячих поцелуях не утопить любовной страсти.
— …нет, нет и нет, — искристо смеется девушка.
— Устя, любимая!
Ударившись о ножну, звякает шпора.
— Тс-с! Слышишь, кто-то бежит? Перевалом[3].
Оба прислушались. По дороге из Уральска дробно с перебоями стучат копыта: «Тра-ак! Тра-ак!» У околицы всадник переходит на ровную строчку рыси: «Тра-та-та-та!» Слышно, как он подъехал к воротам. Скрипнуло седло.
— Ктой-тось к нам. Пойду гляну, — сказала девушка. — Я скоро, Вася.
Осторожно, без скрипа, она открыла калитку из сада и всмотрелась. Всадник привязывал лошадь к колоде на середине двора. Устя окликнула:
— Андрюшенька, ты?
— Я самый, сестренка. Пошто не спишь? Поди, с Васькой Щегловым? — Андрей помолчал, а потом вполголоса добавил: — Ты бы ему насоветовала в станицу поспешать.
— Штой-то?
— Зачинаются серьезные дела, и командиру не модель[4] от части отлучаться.
— Поди, он сам знает.
— То-то оно, что не знает.
— Что же сказать?
— Скажи… скажи, что тебе недосуг сейчас с ним миловаться — гости приехали.
Устя ушла, а через минуту снова раздался конский топот, удалявшийся в сторону станицы Соболевской.
Послушав удаляющийся стук копыт, Устя тороплива прошла через кухню в горницу, ощупью разыскала там крохотное зеркальце и в луче света, падавшего из кухни через непритворенную дверь, посмотрела на себя. Из стеклышка на ладони глянули большие с властной искоркой внутри темные глаза под собольими бровями, слегка опухшие от поцелуев тонкие губы, правильные, строгие черты лица с растрепанными прядями волос на лбу. Приведя себя в порядок, Устя счастливая улыбнулась — и так, с улыбкой, вышла на свет. Щурясь от лампы, она прислонилась к притолоке. Высокая, горделивая, в полном расцвете девичества, Устя никак не подходила к более чем скромному жилищу казачьей семьи среднего достатка — к этим облезлым стульям-самоделкам, к рассохшемуся скрипучему столу с покоробленными досками, к жестяному абажуру на лампе. Красота в красоте красуется, — и здесь требовались, если не царские палаты, то по меньшей мере убранство атаманских покоев.
С минуту Устя следила, как Андрей расправлялся с блинчиками, обильно политыми каймаком[5]. Ел он, чавкая, часто облизывая измазанные маслом пальцы, а мать, стоя поодаль, смотрела на него так, как только» матери умеют глядеть на своих голодных сыновей. На ее морщинистом лице одновременно отражались и радость нечаянной встречи, и ласка вместе жалостью, и тупая покорность судьбе-разлучнице.
— Матерь Пречистая, спаси и сохрани, — один он у меня остался младшенький! — шептали обескровленные старостью, бледные губы.
— Ешь, ешь, Андрюшенька! — заторопилась она, заметив, что сын вытирает губы.
— Спаси Христос, маманя! Сыт, — решительно отказался Андрей.
— Что случилось, братушка? — спросила Устя, подсаживаясь к столу.
— Эка, не терпится тебе! — усмехнулся Андрей и, согнав с лица улыбку, объяснил: — Пока не случилось, но, должно быть, скоро коммунистам придет крышка, ну и, того-этого, продразверстку, значит, по боку. — Андрей обвел слушательниц взглядом. — Дивизия товарища Сапожкова, того самого, что Уральск от белых отстояла, разогнала в Бузулуке комиссаров. В Саратове по той же причине дерутся и черед приходит до Уральска.
— Опять воевать начнете? — Мать с испугом поглядела на сына и на дочь. Вот они, ее дети — оба черноглазые, широкобровые, прямоносые, до чудного схожие по обличью и такие разные по натурам — доброй души, податливый, тихий Андрей и упругая, как стальная пластинка, всегда умеющая поставить на своем, колючая, как куст терновника, красавица Устя. Быть бы ей казаком, а ему девкой! Вот и сейчас Устинья заговорила властно:
— А ты при чем тут? Нас с маманей продразверстка не касается: мы — семья красноармейца.
— По человечеству: как народ, так и я.
— Народ с яра головой, и ты за ним?
— Не касается, так коснется. На Обоимовых триста пудов наложили? Наложили. На Кулькиных — полторы сотни. У Ивана Герасимовича двух коней забрали, а он в белых не был. Нет, я на такую власть не согласный.
— Бог с ней, с властью, Андрюшенька! Ложись спать, за дорогу, поди, притомился, — предупреждая ссору, вмешалась старая.
— Сейчас, маманя. Пойду коня расседлаю да корму дам.
— Чей конь-то?
— Ивана Герасимовича… Это тебе любезный голову забивает. Недаром он о-со-бо-го назначенья, — уже с порога бросил Андрей.
Устя в долгу не осталась:
— Забивать можно пустые головы, а моя с мозгами.
Семья Пальговых избежала постигшего другие казачьи семьи разорения. Произошло это, во-первых, потому, что Андрей не служил у белых (ему в то время не исполнилось восемнадцати лет), и еще потому, что, не поверив россказням о зверствах красных, Пальговы не пошли в отступ к Каспийскому морю.
— Нечего шаландаться, а коли умирать придется, так лучше на родимом подворье, — решила Устинья, привыкшая после смерти отца верховодить. Сказала, как отрезала, и ни мать, ни брат никуда не поехали.
В результате сохранились кое-какие запасы, уцелела корова, а из конюшни всем на удивление выглядывала мухортая лошаденка.
Щеглов возвращался в станицу. Добрый степняк мягко печатал копытами пыльную дорогу. Встречный ветер, играя, забирался в расстегнутый ворот гимнастерки и щекотал тело.
«Что она хотела сказать и не договорила? Да и тебе, Васюнечка, надо быть при части». Как все уральские казачки, Устя пришепетывала, и вместо «Васюнечка» у нее получалось «Ващюнечка». Милая!
Месяца два тому назад Костя Кондрашев, командир второго взвода, не то шутя, не то серьезно сказал Щеглову:
— Ну, комэск[6], нашел я тебе невесту. Умна и красоты неописанной.




