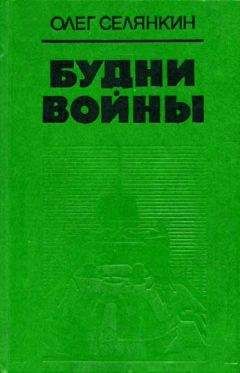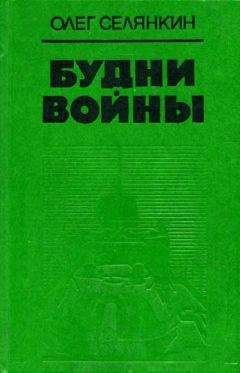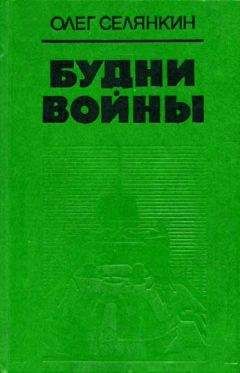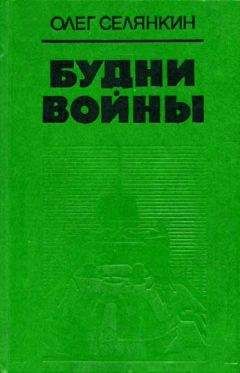Олег Селянкин - Один день блокады
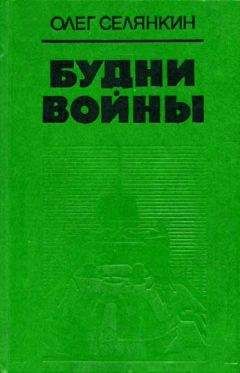
Обзор книги Олег Селянкин - Один день блокады
Олег Селянкин
ОДИН ДЕНЬ БЛОКАДЫ
1
У каждого человека есть мечта. Большая или маленькая, на всю жизнь или только на ближайшее время, но есть; без нее мертв человек.
Была мечта и у Ивана Белогрудова. Самая человеческая: посмотреть Ленинград, хоть разочек пройтись по тем самым улицам, где хаживал Ленин.
Она, эта мечта, зрела подспудно, когда он еще учился в школе, была робкой и почти сказочно несбыточной: от сибирской деревни Тишайшая, где он жил тогда, до Ленинграда пролегла не одна тысяча верст, билет-то на этакое расстояние, если даже в общем вагоне ехать, поди, столько стоит, что семье простого колхозника всю жизнь копить и не накопить.
И вдруг в 1940 году Ивана призвали в армию, для прохождения службы направили в Прибалтийский военный округ. Иван прекрасно понимал, что Прибалтика — еще не Ленинград, но мечта сразу осмелела, стала все чаще и чаще задавать один неизменный вопрос: скоро ли?
Когда началась война, Иван служил под Таллинном. Оттуда и отступал с боями. Так долго отступал, что однажды, глянув на восток и увидев горящий золотом купол Исаакиевского собора, охнул от ужаса: до самого Ленинграда немцев за собой довел!
Но это был особый ужас, не тот, от которого подкашивались ноги, а совсем другой. Вместе с ним будто силы добавилось, а уж злости — это точно. Злости на гитлеровцев за то, что до самого Ленинграда дотопали и теперь без биноклей его разглядывают, и бомбят, и обстреливают нещадно; на себя — что допустил такое.
Не один Иван Белогрудое, а все солдаты, оборонявшие, город, пусть по-разному, но думали об одном, и будто увязли ноги немцев в земле пригородов Ленинграда, и фронт «стабилизировался», как сказал командир батареи.
По-научному, может, и так, но Иван Белогрудое считал, что фашисты просто с пупа сдернули.
В октябре сорок первого впервые увидел он купол Исаакия, а сейчас уже февраль сорок второго. Почти треть года прошла, а он так и не побывал в городе: сначала бои мешали, жестокие, кровавые, потом — блокада силу набрала.
Это ж надо додуматься до такого, чтобы огромный город, где народу побольше, чем в ином государстве, обречь на голодную смерть. Не только солдат, что его обороняли, но и женщин, детишек малых!
Замкнули немцы кольцо блокады вокруг города, вот и бомбят его нещадно, вот и обстреливают из пушек. Не военные объекты бомбят и обстреливают, а дома, где люди еще живы.
По самым различным делам службы не раз бывал Иван Белогрудов в городе. Не в центре, куда с детства влекло, а здесь, на западной окраине, поблизости от родной зенитной батареи, которая за последние месяцы не раз и по вражеским танкам стреляла. И его уже не удивишь ни трамваем, что, занесенный снегом, стоит на перекрестке улиц, ни обледеневшими сугробами почти у каждого дома.
И к трупам он привык, К трупам не на передовой, а здесь, на улицах города: голод, он ведь косит, где уловит, там и свалит. И получается, что люди, не зная о своем смертном часе, пойдут за водой или хлебом, а смерть их и подкараулит.
У живых нет сил убирать мертвых: сто двадцать пять граммов хлеба — весь паек; с него в любом человеке жизнь только теплится.
Привык Иван Белогрудов к трупам на улицах города и поэтому равнодушно прошел мимо женщины, сидевшей у стены; посчитал ее мертвой. Даже не взглянул, молода она или уже в годах. Прошел, лишь покосившись на ее высокую грудь. До того высокую, что подумалось: а не подушку ли она туда для тепла сунула?
Шага на два или три отошел от трупа женщины и вдруг услышал то ли вскрик, то ли всхлип. Очень слабый, еле различимый.
Может быть, и не умерла та женщина вовсе? Может быть, оставили ее силы, может, она крикнуть толком не способна, но еще жива?
Мелькнула эта догадка, и солдат Иван Белогрудов вернулся к женщине, для верности коснулся рукой ее лица. Оно было уже каменным и холодным, как все вокруг.
Тогда он, боясь своей догадки, осторожно засунул руку под байковое одеяло, что окутывало грудь женщины.
Так и есть, ребенок! Он, несмышленыш, и пищал, требуя материнскую грудь. Пусть пустую, пусть иссохшуюся от голода, но только ее. Пищал слабо, еле слышно, однако Ивану почудились в его писке и властные нотки. Почудились — и он не удивился, он даже обрадовался им: в Тишайшей все считали, что дите — главное в семье, оно — продолжение рода человеческого, и чем настойчивее о себе напоминает, тем крепче по жизни шагать будет.
Нежность нахлынула на Ивана, он осторожно, будто братишку или сестренку, взял малыша с окоченевшей груди матери, укутал в одеяло, которое бесцеремонно сдернул с умершей, прижал к груди неумело, но надежно, как раньше нашивал дрова, и вдруг остановился в полной растерянности: а теперь что делать с этой находкой?
Ночь только легла на землю. Тихая зимняя ночь, каких уже было и еще будет много. Щербатая луна равнодушно смотрела меж туч на израненный город, и от громад домов на заснеженную улицу легли густые тени. Ни одного человека не видно. Ни один огонек не мерцает в темных глазницах окон. Будто только и есть здесь живых — солдат Иван Белогрудов и его находка.
Или это кажется Ивану, но малышка все требовательнее, из последних сил пищит.
И тогда солдат Иван Белогрудов решительно поворачивает к родной батарее: там товарищи-други, там командир с комиссаром, они наверняка помогут. И Ивану, и человеку, который в такое тяжкое время начал жить.
2
Только войдя в землянку и осторожно положив на стол свою находку, Иван почувствовал, как затекли руки от этой легкой и очень дорогой ноши.
— Вот значит, принес, — только и сказал он, вытирая рукавом шинели пот, выступивший на лбу.
— А разрешите узнать, товарищ Белогрудов, что вы принесли? Если тряпки какие, мы этим не интересуемся. Может, у вас в одеяле заблудившийся поросенок? Хотя я, сугубо между нами, согласен даже на бобика, — как всегда балагуря, зачастил Прохор Сгиньбеда, лениво и вразвалку подходя к столу.
Но Иван не принял шутку, сказал сурово:
— Дите у меня.
Так сказал, что Прохор сразу посерьезнел, а товарищи повставали с нар, сгрудились вокруг стола.
Несколько секунд только и было слышно, как потрескивал фитиль в гильзе снаряда, а потом Кузьмич — старшина батареи — усомнился:
— А живое оно у тебя? Голоса-то не слыхать.
В это время из одеяла и раздался тот самый писк, который так взволновал Ивана там, на безлюдной улице.
И сразу осклабился в улыбке Прохор, радостно заговорили другие, а Кузьмич приказал:
— Печку. И живо!
Будто из землянки враз пикировали сто «лапотников», так стремительно вылетели из нее все. Кроме Ивана Белогрудова. В нем зарождалось какое-то неизвестное ему ранее чувство, которое остановило его около стола и заставило ревниво следить за желтыми от махорки пальцами старшины. Они, эти пальцы, сейчас осторожно разбирались в складках байкового одеяла.
Наконец показалось и личико ребенка. Оно было маленькое, казалось с кулак, не больше. И все изрезанное морщинами.
— Парень, — ворчливо, но с удовольствием сказал старшина. — Ишь, как брови свел! Девки, они так не могут.
Иван не осмелился спорить: это был первый грудной ребенок, которого ему на руках держать довелось.
А Кузьмич деловито уже засеменил в свой угол, грозно предупредив Ивана:
— Приглядывай за ним. Чтобы не скатился.
Малыш и не думал катиться. Он только пищал, кривя беззубый ротик.
Да и смог ли бы он скатиться, этот будущий человек, который со дня рождения, похоже, еще не едал досыта?
Кузьмич вернулся к столу с кусочком хлеба. С маленьким кусочком хлеба, который, скорее всего, берег на ужин.
Искрошив хлеб в кружку с теплой водой, он достал из кармана чистую тряпицу, сдул с нее табачные крошки.
— Сейчас, орелик, мы тебя накормим, потерпи малость… И брось ты эту бабью привычку реветь. Мужику материться положено. Хотя рано тебе и это, — ворчал он, собирая в тряпицу намокший хлеб. — Вот «ненька» и готова, — закончил он, сунув в рот мальчонки тряпицу с хлебом.
Писк мгновенно оборвался. Мальчонка так яростно сосал тряпицу, что щеки его напоминали втянутые внутрь воронки.
Иван посмотрел на Кузьмича. Тот понял его и ответил до страшного спокойно:
— Изголодался.
А дверь землянки хлопает, хлопает. Это возвращаются товарищи. С топливом в городе очень плохо, грабеж брошенных квартир строжайше запрещен, но сейчас каждый несет что-то. А Прохор приволок почти метровый огрызок телеграфного столба.
— Ты уж, Кузьмич, когда получишь, за эту щепочку отдай из нашей пайки прожектористам осьминку махорки, — только и сказал он.
И Кузьмич, тот самый Кузьмич, который за самую малую крупицу батарейного добра, казалось, был готов удавиться, сегодня смолчал. Будто не расслышал слов Прохора. Но и тот, и другие по лицу Кузьмича поняли, что махра будет обязательно отдана прожектористам.