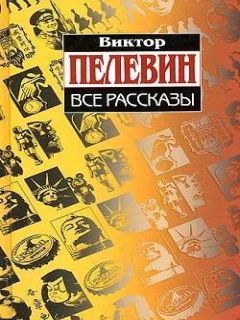Виктор Делль - Полундра

Обзор книги Виктор Делль - Полундра
Коммунистам, офицерам флота
Н.П. Аристову, В.А. Тевянскому
Жизнь прожить — не поле перейти. Бывает же так, привяжется фраза — не отогнать. О чем подумать хочешь, не можешь, все эта фраза забивает. Жизнь прожить — не поле перейти…
Опять же… Смотря какое поле. Походил я по ним. В дождь, в грязь, в осеннюю распутицу. Попалось одно такое: мины, мины кругом. Не помню, как выбрался. На таком поле один шаг неверный сделаешь, и переходить некому. Однажды… По полю я как раз бежал. Гладкое такое поле, здоровое. Лето было. Трава вымахала в пояс. Я и не заметил, как влетел в путанку. Проволока по полю расстелена. Называется спираль Бруно. Тонкая, ее не заметишь с разбега. Так запутался, что еле выбрался. В войну ее против пехоты устанавливали. Попадут в такую путанку солдаты, начинают выпутываться, тут их всех и кладут. Вот тебе жизнь, вот тебе поле. Это как понимать…
С трудом, но я все же гоню и эту фразу из головы и воспоминания о войне. Войне конец. Ее теперь не будет никогда. Не может такого быть, чтобы опять война.
…Бытие определяет сознание. Еще одна фраза привязалась. Точная, как выстрел в десятку. Точнее не скажешь. Мое сегодняшнее бытие определяет мое же сознание. И кажется мне, что люди напрасно называют свет белым. Он черно-белый. По крайней мере, для меня. Еще мне кажется, что живу я на этом черно-белом свете лет сто, не меньше. Прямо-таки изжился весь, а впереди прорва лет. Правда. Не первый раз так думаю. Открыл для себя, что в ненастье годы растягиваются до бесконечности. В этой бесконечности я для себя лазейку нашел. Как навалится жизнь комлем березовым, так я и ухожу в прошлое. Копошится, копошится в такие минуты у меня в голове разное. Ищу, что получше было в прошлом своем. Не всегда получается. Чаще чернота видится. В душе хлябь осенняя растекается, кочки сухой нет. Жить тем не менее надо. Зачем? Для чего? Пытаюсь найти ответы на эти вопросы и не нахожу. Потому и цепляюсь за прошлое, память свою благодарю за то, что нет-нет да и подбросит она из черноты просвет. Кидаюсь в этот просвет, как летом в воду, размахиваю руками, гребу к тому берегу, на котором посветило. Радуюсь, когда удается доплыть. Потому что, если уж в той моей жизни были просветы, значит, в будущем их должно быть больше. Шторм, каким бы сильным он ни был, сменяется штилем, ночь — днем. Перемены должны наступать, иначе не жизнь, черт-те что получиться может, белиберда. По-разному примеряю я к себе и ситуацию, в которой оказался. Сегодня мне, как никогда раньше, надо найти выход. Не находится. Ничего придумать не могу. Ну, просто колун колуном. Воздуха нет. Хоть глоточек отхватить. Маленький, прямо-таки комариный глоточек воздуха, и будь что будет. Тем более что не держит меня ничего. Мне совсем не сто лет, нет еще шестнадцати. Я неподсуден… Может быть, убежать к чертовой матери? Ну его, этот флот, корабли…
Мешанина в голове. Мысли чаще всего возвращаются к разговору в кабинете командира части, к тому, что произошло, что не могло не произойти.
Преступление
— Вы понимаете, что встали на путь преступлений?
Я молчу.
— Преступлений! — повысил голос командир нашей воинской части капитан первого ранга Бальченко. — Именно преступлений, я не нахожу другого слова.
Я молчу.
— Это возмутительно, — хмурит лоб заместитель командира по политической части капитан-лейтенант Дьяков. — Это позор для советского моряка.
Замполит кругл — ни одной складочки. И только там, где глаза, — узкие щелочки. Щурится. Но это от солнца. Дьяков не рассчитал, сел перед началом разговора в тени, разговор затянулся, солнце переместилось. Теперь оно отражается в зеркале, светит Дьякову в глаза. Замполиту бы сдвинуться, пересесть, но монументальный Бальченко сидит недвижно, и Дьяков не смеет.
— На военной службе есть правило: не можешь — научим, не хочешь — заставим!
Голос командира нашей роты старшего лейтенанта Лапина сухой как кашель.
— Вы как стоите! — кашляет Лапин, и я в который раз вытягиваюсь.
— Вы правы, — говорит Бальченко Лапину. — На военной службе есть устав и непременное правило: не можешь — научим, не хочешь — заставим. Идите!
Это уже ко мне. Я поворачиваюсь через левое плечо, трогаю с места строевым. Меня возвращают, приказывают повернуться еще раз. Повторяю и уже в дверях слышу дьяковское визгливое: «Каков наглец, а!»
* * *Если человеку плохо, человек идет к замполиту. Так повелось на военной службе. В любое время: с правдой, неправдой, обидой — человек идет к замполиту. Дьяков говорил: «Напрасно вы ходите ко мне. Я вам объяснял: перевод в другую часть не входит в компетенцию замполита, — Дьяков любил непонятные слова. — Для перевода вам необходимо подать рапорт по команде. Что это значит? Сначала вы отдаете рапорт командиру отделения, понятно? Командир отделения отдает ваш рапорт взводному, взводный ротному. Ротный, — в этом месте Дьяков делал продолжительную паузу и вздыхал. — Ну, а уж ротный — командиру части. В такой же последовательности подаются жалобы вплоть до министра, да…» Дьяков говорил медленно, словно нарочно растягивал слова, фразы. Я слушал, и мне совсем не хотелось писать жалобы «вплоть до министра». Я писал рапорты на имя командира части, просил перевести меня на корабль. На шестой рапорт получил шестой отказ. В тот день я стоял часовым у продовольственного склада. Размышлял. Вот стоишь ты возле небольшого здания в километре от части, думал я. Здание освещено. На каждом углу по большой электрической лампочке. Ты как муха на белой стене, лапки разглядеть можно. Кругом темень тьмущая, развалины, заросли дикого винограда. По уставу, если услышишь шаги, должен крикнуть: «Стой, кто идет!» Повторить окрик, если нет ответа. Потом выстрелить в воздух. Защищаться имеешь право только в случае явного нападения. Похоже на рапорты по команде, после которых можешь писать жалобу «вплоть до министра». А если без всякого предупреждения тебя из темноты кирпичиной по голове, тогда как быть?
Раздумья мои прервал шорох. Будто крадется кто. Незаметно я снял затвор с предохранителя, выстрелил. В зарослях хрустнуло, затрещало, раздался топот. Я стрелял, пока не кончились патроны, пока не сбежался ко мне весь караул. Оказалось, что часовых в ту ночь проверял наш комроты Лапин. Оказалось, что я мог застрелить нашего командира роты. Со мной разговаривал замполит.
— Вы нарушили устав, — говорил Дьяков.
— В уставе сказано про шаги, — отвечал я, — про шорох ни слова. Вдруг бы меня кирпичом по голове?
— Вы не имели права стрелять, юнга, — убеждал Дьяков.
— А вы? — спрашивал я. — Вы имели право давать мне боевое оружие? Я присяги не принимал.
Меня посадили на гауптвахту. Я хотел было сказать, что и на гауптвахту меня до принятия присяги сажать не положено, но смирился. Когда отбыл свой срок, написал жалобу министру. Очень далекие концы у нас были, у меня и у министра. Я на одном, он — на другом. Мне интересно стало. Неужели так может быть, подумалось, что моя жалоба дойдет до министра? Мне проверить захотелось, а меня вызвали к Бальченко.
* * *Я вышел от командира, повернул было к кубрику, но раздумал. «Научим, заставим», — кипело во мне. — Черта лысого ты заставишь… Ну, надо же так влипнуть… Моряки… За всю войну выстрела не слышали…»
Мысль о том, что все воинские части важны, что каждое звено в системе вооруженных сил необходимо, в мою голову не приходила. Флот в моем понятии состоял лишь из кораблей, на них я и рвался. Что касается служб обеспечения и прочего… Об этом не думалось. Меня манило к себе, притягивало только море…
Часть особого назначения, в которой я оказался, стояла в небольшом курортном поселке. Кругом были дома отдыха, санатории. Вдоль улиц — кипарисы. Строем, по стойке смирно вытянулись. Наша часть с улицы тоже похожа на санаторий. Двухэтажные белые коттеджи подпоясаны верандами. Только часовой в морской форме и антенны, антенны к небу объяснят любому, что зеленый уголок этот совсем не дом отдыха.
А море — вот оно, рукой подать.
После гауптвахты меня перестали тревожить. Обо мне вроде бы забыли. Я как бы выпал из обоймы. Завтрак, обед, ужин… Я тоже не напоминаю о себе. Каждый день забираюсь в дальний угол виноградника. Тихо. Только пчелы гудят. Весь я в эти дни в прошлом. Память услужливо подбрасывает то одно, то другое.
* * *…Был день, лил дождь, бежали, пузырясь, ручьи. Гремел гром. Я ревел. Мой большой белый пароход, его мне подарил отец, впервые вышел в плавание. Я ждал ливня, а меня подхватили на руки, несут в дом. Сердитый голос матери: «Удумал в грозу такую». Крепкие руки отца…
От таких воспоминаний солнце светит ярче. Я начинаю подремывать. В голове плывет одно и то же: были, были, были. Потом где-то кто-то кричит, видение птицей испуганной улетает, и его уже нет. Проходит время, другое видится, более позднее. Ящик под вагоном не худшее место для проезда. Вначале страшно, потом привыкаешь. Летит поезд, стучат в самое ухо колеса. Спокойно. Нет контролеров, милиционеров. Если прихватишь с собой еще чурбак какой, тогда и вовсе хорошо. Сунул его в дверцу, видно все, как из окна вагона. Только не усни, а то вывалишься, и тогда конец.