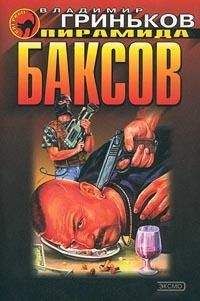Владимир Успенский - Бой местного значения

Обзор книги Владимир Успенский - Бой местного значения
Успенский Владимир Дмитриевич
Бой местного значения
Аннотация издательства: Скромный и мужественный политбоец, на которого равняются его товарищи-саперы; смелые моряки, отражающие попытку гитлеровских подводных диверсантов прорваться в один из наших северных портов; чекисты, ведущие борьбу с вражеской агентурой; воины-ракетчики, безупречно владеющие новейшей техникой, — вот лишь некоторые персонажи этой книги. Повести и рассказы, составляющие сборник, объединены одной мыслью: речь в них идет о высоких моральных качествах советских воинов.
Бой местного значения
1
Связной нашего комбата — бывший спортсмен. Значкист. У него длинные, тонкие, всегда чуть согнутые в коленях ноги. А голова маленькая, как у дошкольника. Вся сила в ногах. Скачет из подразделения в подразделение и вечно появляется не вовремя, словно выбирает самую неподходящую минуту. Едва сел я на бревно, чтобы пришить подворотничок к гимнастерке, и вот он — пожалуйста!
— Товарищ лейтенант, к комбату!
— Ну? — неохотно повернулся я. — Что там? Всех собирают?
— Только вас! — Связной изобразил на морщинистом личике почтительную улыбку. — Товарищ капитан велел сказать, чтобы вы не задерживались. Товарищ капитан не один.
— Эх-хе-хе! — вздохнул Петя-химик. — Накрылся, значит, наш культпоход!
Он тоже сидел на бревне и тоже пришивал подворотничок к новой добротной гимнастерке с сержантскими треугольниками на петлицах. Апрельское солнце за день прогрело землю, но из леса тянуло холодной сыростью. А Пете хоть бы что — здоров, крепок, сидит в сиреневой майке, и никаких там мурашек на широких белых плечах.
Рядом с сержантом — политбоец Попов. И этот — в майке и тоже не чувствует холода. Кожа у него не такая молочная, как у моего помкомвзвода. Попов суховатый, смуглый, будто успел уже загореть.
За Поповым, возле ствола старой березы, примостился Охапкин — боец неказистый, сутулый, со впалыми щеками. Человек он хозяйственный, бережливый. Носит латаную-перелатаную гимнастерку, а новую, почти ненадеванную, достал сейчас из вещевого мешка.
Над головой солдата на стволе березы виден аккуратный надрез. Это Охапкин сделал его — ожидает, когда сок потечет, чтобы собрать в бутылочку. Но я думаю, сок не пойдет. Еще в марте среди ветвей березы разорвался малокалиберный немецкий снаряд, изломал, искалечил крону. Стоит береза, опаленная с одной стороны, словно смертельно раненная...
За Охапкиным неумело тычут иглами два Вани — два молодых круглолицых парня, таких похожих и одинаково курносых, что мы зовем их близнецами. А Хабибулла Янгибаев скалит белые зубы, ожидая чью-нибудь иглу с ниткой. Такой уж он человек — не любят его вещи. Даже бритву потерять умудрился. Винтовка у него да подсумок — вот и все имущество.
Бревно длинное — только вершина отпилена. Разместился на нем весь мой саперный взвод. Днем мы готовили в лесу колья для проволочного заграждения, а теперь пришиваем свежие подворотнички, хотя никакого праздника не предвидится. Просто Петя-химик приносит связку чистых подворотничков, когда ходит в банно-прачечный отряд к своей зазнобе. Как раз вчера Петя был у нее и предупредил: на следующее свидание подружку, мол, приведи — с лейтенантом явлюсь.
Сказать по совести, я не очень хотел идти в банно-прачечный отряд. Даже маленько робел. Мне казалось, что работают там здоровенные бабы с мощными руками, с красными распаренными лицами. О чем с такой говорить? Петя только посмеивается — зачем говорить, действовать надо! Но беда в том, что я и действовать-то не умею. Для меня привычней и легче мины снимать. И я в глубине души обрадовался, что свидание откладывается. Но обрадовался не очень. Неожиданный вызов к комбату ничего хорошего не сулил.
До землянки комбата — полкилометра. Надо обогнуть невысокий холм. За ним — болотистая поляна с редкими березками, потом густой молодой ельник. Если простоим до осени, грибов будет навалом.
Место здесь безопасное. Лесистый холм скрывает поляну и ельник от глаз немецких наблюдателей. Можно идти в полный рост. Вот я и шагал по скользкой прошлогодней листве, огибая промоины и лужи с прозрачной, синеватой водой. Шагал и бодро насвистывал. А что еще оставалось делать? Я не новичок на фронте и давно понял: не следует волноваться, пытаясь предугадать решение начальства. Зря нервы растратишь. Надо попроще. Получил приказ, усвоил — отдай все, чтобы выполнить задачу с умом: и дело сделай, и людей сохрани. Вот тут самое время соображать, а раньше нет смысла заряд расходовать.
Поэтому я и свистел, и старался думать о том, как мы с помкомвзвода Петей хорошо повлияли на бойцов. Начал сержант приносить чистые подворотнички — пустяк вроде бы, а внешний вид у людей изменился. Я на этот счет раньше не очень требовал — не на курорте мы. Но когда подворотнички доставлены, будь любезен, пришей. А раз подворотничок свежий — человеку и небритым неловко ходить. Даже старик Охапкин чаще стал белесую щетину соскабливать. И уж если человек выбрит, если у него подворотничок белый, неужели он забудет сапоги почистить или хлястик на шинели пришить?!
Во всем взводе только политбоец Попов не пользовался Петиными услугами, сам продолжал стирать свои подворотнички. Когда Петя предлагал свежий, Попов отказывался с усмешкой: ничего, дескать, и так управлюсь.
Ну, подворотнички — это ладно. Вообще жить радостней стало. Приободрились и повеселели мы после зимы. На солнцепеке отогрелись, воздухом надышались весенним...
Комбат, наверно, нервничает, поглядывает на часы. А мне зачем торопиться? Ругать меня он не будет. Он мягкий человек, наш капитан. Инженер, в начале войны призван. Ко мне хорошо относится. Мы ведь давно вместе воюем, целых пять месяцев. Он немного заискивает передо мной, и я знаю почему. Капитану совестно посылать меня на риск чаще других. Но он посылает. Он мнительный человек, наш капитан. Он помнит наш первый бой. Мне тогда здорово повезло. Я со своими ребятами сделал ночью три прохода в немецких заграждениях. Работали под самым носом у фрицев. И никаких потерь.
Нам повезло, а капитан тогда поверил в мою счастливую звезду, хотя у нас в батальоне были товарищи и старше, и опытней — еще с финской войны. Они постепенно выбывали из строя, а я оставался жив и здоров. Ну и научился, конечно, кое-чему. С каждым днем становился осторожней, больше думал и взвешивал.
Неловко было капитану раз за разом гонять меня на трудные задания. В середине марта понадобилось расчистить проход для наших разведчиков. Мины, проволока в три кола, ловушки и сюрпризы немецкие. Веселенькая работка. Но капитан послал не меня, послал третий взвод. А я со своими ребятами обеспечивал. Мы долго лежали на талом снегу, промокли и замерзли. Я уже думал, что дело слажено. Но на ничьей земле начался вдруг кавардак, затрещали фрицевские машиненгеверы, полетели ракеты. Пушки забухали с обеих сторон. Стало, как говорится, и светло, и тепло.
Ушли на задание девять саперов, а возвратились трое. И притащили с собой тяжело раненного лейтенанта. Оказывается, под конец работы один молодой боец ойкнул — руку, что ли, проволокой уколол. Негромко и ойкнул-то, а немец услышал в ночной тишине...
Комбат сказал мне тогда с упреком: «Вот, Залесный, если бы ты пошел, ничего бы этого не случилось». Хотелось возразить: и я ведь не заговоренный. Но капитан только рукой махнул... Не трудно было понять, что все крепкие орешки отныне — мои. И в общем-то я не ошибся...
Землянка у нашего комбата глубокая и узкая. В дальнем конце ее — дощатый стол. Потрескивая и воняя бензином, горела лампа, казавшаяся тусклой после дневного света.
На лавке у стола сидели наш комбат и незнакомый мне командир, с лицом, лишенным примет. Изжелта-серое пятно — ничего не выделишь и не запомнишь. Вероятно, какой-нибудь представитель. Я недолюбливаю таких безликих людей. То ли дело наш капитан! Вся его биография сразу понятна. Морщины и седина — это от возраста и переживаний. На подбородке шрам — зацепило осколком. Волосы хоть и поредевшие, но непокорные, лезут из-под пилотки на лоб. А глаза по-детски чистые, добрые, только какие-то поблекшие и усталые...
На представителя, закутанного в плащ-палатку, я произвел, наверное, не очень хорошее впечатление. Он даже поморщился чуть-чуть и отодвинулся в тень, подальше от лампы. А что поделаешь — я и сам знаю: нет во мне той лихости, которую любит начальство. Шея у меня длинная, тонкая, с большим кадыком. Острый нелепый кадык — он мне всю фотографию портит. И на такой шее — здоровенный остриженный шар, лишенный, впрочем, всякой солидности. Башка-то здоровая, а физиономия мальчишеская. Щеки румяные, глаза круглые, ресницы густые, длинные, черные. Я уже миллион раз слышал о том, что глаза у меня, как у девушки. Даже осточертело — лучше бы уж ослиные были.