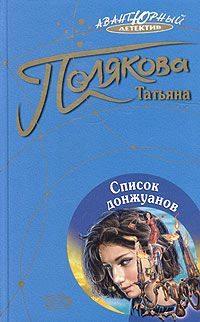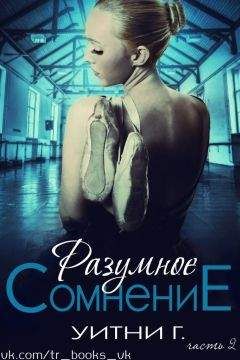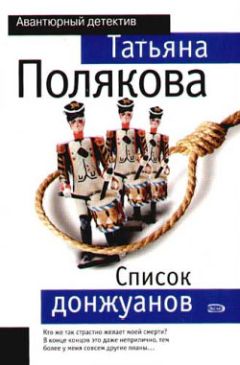Андрей Рубанов - Сажайте, и вырастет
Я попытался здраво оценить свои перспективы. По всему выходило, что перспектив нет, совсем. Сцены, одна кошмарнее другой, вставали перед глазами: вот смотрящий камеры, легендарный Слава Кпсс, прощается с ее населением; вот последний раз окидывает взором сто тридцать пять повернутых в его сторону лиц; вот за ним закрывается дверь, вот повисает тревожное молчание, вот проходит один день, затем второй – и все меняется. Славы нет, он на свободе. Джонни нет, Андрюхи тоже. Оба – в карцере, взяты за пьянку. Кто теперь будет дергать хитрые дорожные веревки? А главное: кто будет наводить ужас на толпу из ста голых, полумертвых от тесноты и недосыпа людей?
Потом я вернусь. Между прочим, в ореоле позора. По пьяному делу бросил Трассу! Нанес вред Общему Ходу! Мне немедленно это предъявят. Тот же Слон. Даром что он – парняга при понятиях. Получим все трое: Джонни, я и Малой.
До драки, наверное, не дойдет. Но всякий достойный арестант узнает важную новость: оказывается, последнее время рядом с ним, на Дороге, стояли случайные люди, у которых не было ни ума, ни понятий. Такие – должны находиться в стороне от Общего Хода! Меня и моих приятелей немедленно выкинут с козырной поляны.
Я закурил третью сигарету.
Ничего: впереди еще десять с лишним дней. Я что-нибудь придумаю. А пока – я обязан сделать самое главное и важное. Спрятать грев.
В течение двух часов, то ползая на коленях, то подпрыгивая к нечистому потолку, я тщательно, неторопливо зарядил всю камеру. Растворил в ней всю пачку сигарет и коробок спичек. Затолкал во все дыры, в щели, изготовил из собственной слюны и пыли замазку и ею довершил маскировку.
«Это тебе не чужие миллиарды от налоговой инспекции прятать!» – расхохотался вдруг появившийся Андрюха-нувориш.
«Пошел ты!» – рявкнул я; может быть, даже вслух.
«Как скажешь»,– равнодушно ответил мальчик-банкир и исчез. Но правота осталась за ним.
Вошедший утром трюмный потянул носом воздух, куснул губы и сказал:
– Выходи в коридор. Тут же состоялся молниеносный обыск. Я лишился всего сахара и девяти сигарет из двенадцати спрятанных.
– Ты, я так понял, борзый, – произнес трюмный, ужасно благоухая. – Тебе здесь нравится, что ли?
– Нисколько.
– Я думаю, нравится, – как бы не слушая, продолжал менеджер карцера. – У тебя пятнадцать суток срока, да?
– Точно.
– Я тебе сделаю тридцать,– пообещал трюмный. – А вообще, чтоб ты знал, такие, как ты, у меня обычно сидят по сорок пять. Тебе ясно, пацан?
Пацану сравнялось двадцать восемь лет.
– Однозначно, начальник, – ответствовал он, проделав все необходимые пацанские движения: раздвинул в заискивающей улыбке губы, расставил пальцы, всплеснул руками, глазами же изобразил чрезвычайную, из ряда вон выходящую законопослушность. В уме же при этом он проклял как хитроумного вертухая, разгадавшего местонахождение тайников, так и самого себя, не проявившего достаточной изобретательности.
– Еще один раз учую дым,– предупредил трюмный,– сразу довешу еще пятнадцать! За нарушение режима. Ясно?
Пацан повторил церемонию ответа.
Трюмный застегнул замок на нарах. Я немедленно стал прикидывать, каким образом смогу растянуть на двое суток уцелевшие три сигареты. Наверное, я решил бы попросту бросить курить и так обернуть на пользу всю глупую войну с дезодорированным надзирателем, если бы по возвращении из трюма меня ждала прежняя жизнь. Но об этом не приходилось и мечтать. Для поисков выхода мне требовались все ресурсы мозга. Обойтись без курения я не мог.
4Весь четвертый день я провел в грустных раздумьях. Именно сегодня покинул следственный изолятор «Матросская Тишина» самый важный для меня человек.
Где-то там, двумя этажами выше, в сто семнадцатой хате, у меня дома, сегодня утром выкрикнули:
– Cлава! Тебя на волю заказали!
Сто бедолаг – кроме тех, чья очередь спать, – жадно вытянули шеи, пытаясь увидеть того, кому предназначалась эта фраза, запомнить момент торжества на лице отсидевшего пять лет арестанта, мгновенный блеск глаз, скупой победный жест руки.
Когда-нибудь и мне скажут то же самое. А пока все плохо. Очень плохо.
Друг – ушел. А враг – ждет меня, чтобы напасть и уничтожить.
Очередной сигаретный транш я решил отбить с доходностью пятьдесят процентов. То есть спасти от трюмного не менее половины спрятанного. От каждой сигареты я отломил фильтр – ненужное излишество в моих условиях. Разломил надвое все двадцать бумажных цилиндриков, чтобы облегчить маскировку. Далее я нарочито небрежно сунул несколько жирных окурков в такие места, куда надзиратель заглянет непременно. Он найдет, решит, что дело сделано, и не станет искать дальше. Так я уберегу основное.
Процесс поиска самых хитрых ямок в полу и щелей в стенах продолжался до рассвета.
Но когда работа почти подошла к концу, я остановился. Через дыхательную дыру до меня донеслись утренние звуки: отдаленный топот многих ног. Бухали тяжелые сапоги, чуть легче и тоньше звучали подошвы офицерских ботинок, звонко ударяли в асфальт дамские каблуки. Это спешили на работу служащие изолятора: надзиратели, оперативники, режимники, фельдшеры, приемщицы передач, кладовщики, подсобные рабочие, смотрители собачьего питомника, работники финчасти и прочие труженики ключа и дубинки.
Незачем, сказал я себе. Незачем прятать запрещенные табак и сахар. Не надо ничего маскировать. Наоборот.
– Ничего себе! – зловеще произнес трюмный, увидев меня, сидящего на матрасе в облаках дыма. – Да ты все попутал!
– Отнюдь, начальник, – возразил я.
– Куришь в открытую! – выкрикнул надзиратель. – Сегодня же оформляю тебе довесок! Для начала – пять суток! Давай сюда сигареты! И все остальное!
– Тебе надо – сам забирай.
Схватив мятую пачку – я специально оставил ее на виду,– трюмный повернулся ко мне спиной и двинулся прочь.
– Не забудь,– произнес я.
– Что?
– Оформить пять суток. Не забудь. Благоухающий опять вонзил желтые зубы в кожу рта.
– Хамишь, пацан! Смотри, как бы пять не превратились в десять!
Можно было бы развить конфликт еще дальше. Поднять ставки до пятнадцати. Но я решил, что для первого раза достаточно. Пусть мой сладко пахнущий приятель оформит «довесок». Пять суток или десять. А лучше – сразу месяц. Здесь, в карцере, хоть и холодно, и есть нечего,– зато спокойно. За несколько недель там, наверху, дома, в камере, улягутся все страсти. Многие очевидцы событий – те, кто помнит и реанимацию малолетнего наркомана, и пьянку с моим участием, – уйдут. Их место займут новички. Чем черт не шутит – может быть, и сам Слон осудится и съедет в осужденку, на этап, в лагерь, подальше от меня...
Ничего, что Новый год я встречу ниже уровня земли, обнимая драный матрас. Нет проблем. Зато я выдержу паузу. Так поступает тренер волейбольной команды. Когда по ходу матча сопернику удается поймать кураж и его нападающие начинают вколачивать один мяч за другим, доводя счет партии до разгромного,– наставник немедленно берет перерыв, тайм-аут. Чтобы сбить атакующий настрой...
Всю вторую половину моего карцерного срока я курил открыто. Грузы заходили один раз в двое суток. Теперь сигареты и спички, сахар и витамины свободно лежали в углу, на полу, на чистом куске газеты «Московский комсомолец». Каждое утро трюмный равнодушно забирал запрещенное богатство и выходил, не произнося ни слова,– только упирал в меня угрюмый взгляд и кусал губы.
5В последнюю, пятнадцатую, ночь заснуть не удалось. Мешало волнение.
Когда заскрипел металл и железная пластина дверного люка подалась наружу, я подскочил к двери. Но невидимый мне благодетель успел протолкнуть в полуоткрытую «кормушку» новый сверток и поспешно закрыл дыру – очевидно, он не желал, чтобы постояльцы карцера видели его лицо. Я лишь уловил остатки сильного запаха дешевого мужского дезодоранта.
Потом из желтого полумрака сгустился Андрюха-нувориш.
«Сидишь?» – спросил он издевательским тоном, зажигая увесистую «Гавану».
«Сижу».
«И как сидится?».
«Как всем».
«Ха! А я думал, ты не такой, как все...»
«В том-то и дело. Я ошибался».
«Делай выводы из ошибок и двигайся дальше,– небрежно призвал Андрюха. – Ты же сам знаешь: опыт – сын ошибок трудных! Это сказал Пушкин, великий афророссиянин! Учти опыт и поднимайся! Выпьешь коньяку?»
«Нет».
«Сигару?»
«Спасибо, нет».
«Как знаешь. С коньячком оно классно курится... Короче, ты все понял? Ты один раз поднялся, заработал, разбогател – и второй раз поднимешься и заработаешь...»
«Поднялся!» – передразнил я. – «Заработал!» И где теперь тот, кто поднялся? В тюрьме! И не в обычной, а в самой грязной, темной и вонючей, и не в камере даже, а – в подвале! В трюме! В таком месте, ниже которого нет. Это ты называешь словом «поднялся»?»
Нувориш молчал.
«Ладно, бог с ней, с тюрьмой, – вздохнул я. – Она когда-нибудь закончится. Тюрьма и воля – это два имени одного и того же состояния. Но чем я займусь потом? Я – нищий! Нет компаньона, нет бизнеса, нет денег, нет перспектив!»