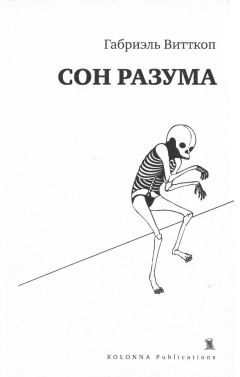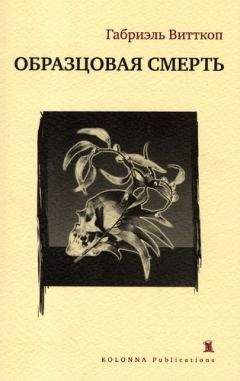Габриэль Витткоп - Сон разума
— Завтра, — говорит мадмуазель Ли, снимая чулки. Габриэль трогает шевелюру мадмуазель Ли — тяжелую и совсем холодную.
Габриэль медленно проводит вдоль ее спины указательным пальцем, и тот чуть подскакивает на каждом позвонке. Она прижимается к каждому позвонку губами.
Мадмуазель Ли сменяет Маргарита. Усмиренная, ста бая, с фиолетовыми кругами под глазами, Габриэль начинает выздоравливать, хоть ей ужасно не хватает мадмуазель Ли.
Лишенная воображения Маргарита изъясняется с большим трудом. На самые заковыристые намеки и тяжелую артиллерию прямых вопросов она отвечает лишь избитыми фразами:
— Почем мне знать. — Не сравнить. — Так я тебе и поверила, что ты не знаешь, как это бывает. — Как все. — Всегда одно и то же. — Все мужики одинаковые. — Что тут скажешь…
Формы, цвета, слова, жесты размываются, разжижаясь в тусклое желе — желе из маргариток; они утекают в пустоту с монотонным стуком капель. Поэтому часы проведенные с Маргаритой, обладают ликом вечности и запахом лимба. Глядя, как дождь заливает стекла длинными бесцветными потоками и слушая звук маятника можно ощутить все матовым и текучим
— матовое и текучее безразличие космоса, матовое и текучее присутствие смерти. Это чувство вскоре воцаряется в душе крепко прилипает к ней, оставаясь в компании не только бледной Маргариты, но и Франсин, Катлин, прочих…
Скука — это яйцо с сюрпризом. Когда Арлетт резко оттолкнула Габриэль: «Ты что, с ума сошла?», ее голос слегка задрожал от возмущения. Оно было другим — возмущение отказом, со спазмом в кишках, монашеской рясой стыда, а также смутным опасением: глупый, несуразный шантаж. Ни зеркала без амальгамы для Габриэль, ни вопросов о жестах Габриэля, которые, хотя и стали общими, могли бы еще сохранить немного своей тайной и мрачной свежести. За паутинообразной шторой порванных чулок прячется одностороннее зеркало — Габриэль наслаждается этой мыслью, даже если иногда она боится увидеть в отражении удивленный взор Габриэля, что надеялся столкнуться с собственным взглядом.
Ослепленные неоном и оглушенные музыкальным автоматом, они пьют аперитив в баре на улице де ля Гэте.
— Я не люблю Арлетт, — говорит она.
— Впрочем, как и меня, — рассеянно произносит он. — У тебя новая туалетная вода?
Снег падает с губ Дельфины, припорашивая все вокруг. Неподвижность белизны. Лишь движение звуков, тактов.
— Завтра он везет меня в Версаль, — говорит Габриэль. Затем опять: —Когда мы вместе, время бежит быстро.
— Слишком быстро.
— Потому что мы любим друг друга.
— Да, потому что мы любим друг друга. — Я сказала: МЫ. — Ну да, мы.
— Нет, МЫ. Он и я. МЫ.
— Зачем ты мне это говоришь?
— Чтобы ты не строила иллюзий. Он и я. МЫ. Дельфина начинает плакать. Все ее опасения разрешились влагой на носовом платке. Предупредительный любовник, изобретатель тысячи знаков внимания, исчезает именно так, как она всегда боялась. В глубине души она никогда не верила в чудо, и только что услышанные слова — всего лишь старый ключ, не более того. Все кончилось, даже не успев начаться. Дельфине известен лишь один страстный порыв — слезы и, возможно, отчаяние, если отчаяние — это утрата чаяний.
Габриэль прислоняется к подушке, чтобы лучше видеть, как плачет Дельфина. Ничто так не напоминает плачущую девушку, как плачущая девушка.
— Могла хотя бы поблагодарить меня.
Габриэль появляется за зеркалом без амальгамы, одинокая и нагая неясной, смутной наготой, изученная, но вместе с тем незнакомая — в резком свете заснеженного пейзажа. У нее угрюмый, тоскливый вид. Она проходит и удаляется, оставляя за собой пустоту.
— Послушай, Дельфина… Ты надоела мне. Я не говорила тебе, чтобы не огорчать…
— Но, разумеется, если… Нет… Убери руку…
— Пускай.
— Ты злая — вот!
— Если будешь реветь, я тебя отлуплю. Хочешь? Хочешь? Хочешь?.. Дельфина растворяется — рыдания, каскады, бурные потоки, конец света, потоп, перемежаемый мяуканьем блеяньем, лаем.
— Я для него — лишь приятная забава, не более того Впрочем, как и все остальные.
— Точно.
«Точно» — выражение излишней, чрезмерной жестокости.
И хотя Габриэль думает, что как раз нет ничего со мнительнее, чем точность, что ничто не поддается определению и от него ускользает все, возможно даже сам Габриэль — мужчина, преданный чарам, объект миражей, — она пытается найти спасение в иллюзорной проекции будущего, в том, что грядет: в непрерывности. Она закрывает глаза, уже уставшие — всегда уставшие. Она мечтает об оранжевом снеге, повествующем о Габриэле, но таком мягком и ватном, упраздняющем любые тревоги и противоречия. Оранжевый снег речей, что вновь укроет все вокруг, включая зеркало без амальгамы, укроет ее саму, затопит и приведет обратно к ее истоку, заставит вернуться далеко — в тело Габриэля — слепой, бессознательной, и спрятаться в нем навсегда, навсегда, навсегда…
Когда бьют часы, она встает и подходит к окну, смотрит на улицу де Ренн в шесть часов вечера: машины, люди — все это вне его и ее, иными словами, безразлично или ненавистно.
Она подбирает со стула одежду Дельфины. — Одевайся. Можешь идти. Дельфина смахивает сопли тыльной стороной ладони, неуклюже вытирает гениталии и делает пару шагов к ванной, прижимая комок своего белья к груди.
Хотя жестокость не всегда подразумевает раскаяние, ей все же знакома финальная горечь. Габриэль грустно улыбается Габриэлю, размытому, будто неудачный портрет, неясному и смущенному в зеркале без амальгамы. Беспокойство утяжеляется, столетия сгущаются в деревянистую субстанцию, именуемую временем. Свирепая оса, клепсидра с плетеной талией, предрекает последние удушения — тот недалекий день, когда Габриэль сознательно разрушит это МЫ, из-за которого так горько плачет сегодня Дельфина. Внимание, история заканчивается. Ты никогда не улыбаешься Дважды одной и той же улыбкой. Не пропоет петух Два раза, как изменишь мне трижды. Я, Господи? Я, Господи? Даже если все прочие…
Он умер гораздо позже, так ничего и не узнав ни о соблазненных любовницах, ни о зеркале без амальгамы.
Если только не предпочел молчать…
Живот
перевод В.Нугатова
Препона. Всего лишь изменение ритма, внезапный сбой в мифологическом механизме, укорененном в своих противоречиях. Глухой удар, который можно сравнить с проникновением лезвия в анестезированную плоть, а затем — хруст стыда, пока Мадлен, будто названная в честь печенья, до бесконечности растягивает свою огромную, шаткую фразу.
Стыд — это липкая, пылающая смола, горящее гудроновое покрытие, что пристает к плоти. Стыд Клемана обволакивает его полностью, не оставляя места для прочих страданий и даже эмоций. Каких эмоций? Жалости? Но жалость уже отыграла свою роль: нарумяненная ярко-розовой краской, она раскачивалась на кончике нити и ушла тотчас после своего деланного выхода: когда-то, год назад, он почти принял ее за не что иное. Ошибка идентификации. Без комментариев Напрасно пытаться объяснить, как Мадлен (наверняка съедобная), святая мученица в нимбе железнодорожных акций, дочь члена Жокейского клуба, вызвала это минутное сострадание, эту жалость, что не посмела себя назвать и, точно сгнившая роза, мгновенно осыпалась. Или, возможно, она была излишним оправданием стремления к роскоши, вполне законного this side of idolatry,[3] у входа на большой базар? Но Мадлен — лишь неясный, зыбкий символ…
Хотя любой образ — только подготовка, ни один не способен предохранить последующие. Они пришли к соглашению и свыклись с положением вещей: обезьянам, обитающим в развалинах храма, лучше оставаться добрыми друзьями. Клеман и Мадлен занимают в доме на улице Галилея два этажа, соединенных внутренними лестницами, — лабиринт из больших комнат и маленьких коридоров.
Если все пойдет плохо, он родится, заранее ненавистный, в октябре 1897 года. Вмиг возникая по воле воображения, ненависть не проходит сразу. Клеман никогда об этом не думал.
Когда я был маленьким и мы еще жили в Шайо, я часто прятался в каком-нибудь уголке, чтобы поиграть «в четырехглазку», которую сам придумал, хотя это была даже не игра. Просто нужно смотреть на мир по очереди то одним, то другим глазом (главное — сквозь кольцо), наслаждаясь двойственностью вещей, удвоением перспективы, апофеозом и крахом Евклида, высшей шизофренией. Я опробовал множество вариантов собственного открытия, обычно притаившись на винтовой лестнице, где почему-то всегда пахло свежей краской. Она вела к навощенной площадке, куда свет поступал через окно в потолке. Площадка возвышалась над кладовкой для белья — таинственной комнатой, где в кучу были свалены чемоданы и чехлы: целый мир. Меж двумя стенными шкафами открывалась дверь той, кого всегда звали Паучихой.
Не знаю, зачем я говорю здесь о Паучихе. Конечно, она играла большую роль в моих детских грезах, и разумеется, я часто играл на ней в четырехглазку, но почему она всплывает из-под черного крепа воспоминаний именно сейчас?