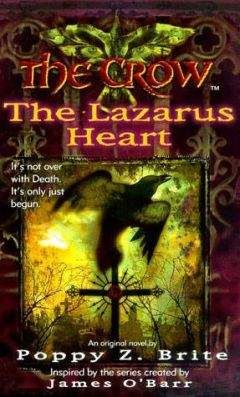Владимир Сорокин - Норма. Тридцатая любовь Марины. Голубое сало. День опричника. Сахарный Кремль
– Что? – устало посмотрел на нее Леонид Петрович.
– Ничего, ничего…
Он бросил окурок:
– Ну так я позвоню тебе утром, а?
– Звони…
Марина взяла у него коробку:
– Спасибо тебе…
– Да не за что, Мариш. До субботы.
Его пальцы украдкой пожали ее запястье. Марина кивнула и стала спускаться в подземный переход по залитым жидкой грязью ступеням.
Метро было переполнено. В поезде ей уступил место какой-то подвыпивший мужчина, по виду стопроцентный слесарь. Марина села и, не вслушиваясь в его сбивчивые портвейновые речи сверху, вытянула из-под бечевки опись заказа:
«Четвертак подарил мне, – подумала Марина, пряча листок в карман, – а заказики ничего у них. Ребята будут рады…»
Слесарь что-то бормотал наверху, уцепившись костлявой рукой за поручень.
Марина посмотрела на него.
Темно-синее демисезонное пальто с огромными черными пуговицами, засаленными лацканами и обтертыми полами нелепо топорщилось на его худощаво скособочившейся фигуре. Свободная рука сжимала сетку с завернутой в «вечерку» сменой белья, широкие коричневые брюки вглухую наползали на грязные ботинки. На голове косо сидела серая в крапинку кепка, пестрый шарф торчал под небритой челюстью.
От слесаря пахло винным перегаром, табаком и нищетой, той самой – обыденной и привычной, бодрой и убогой, в существование которой так упорно не хотел верить улыбающийся Марине слесарь.
Подняв руку с болтающейся сеткой, он отдал честь, приложив к свежестриженному виску два свободных пальца с грязными толстыми ногтями:
– Ваше… это… очень рад… рад… вот так…
Сетка болталась у его груди…Больше всего на свете Марина ненавидела советскую власть.
Она ненавидела государство, пропитанное кровью и ложью, расползающееся багровой раковой опухолью на нежно-голубом теле Земли.
Насилие всегда отзывалось болью в сердце Марины.
Еще в детстве, читая книжки про средневековых героев, гибнущих на кострах, она обливалась слезами, бессильно сжимая кулачки. Тогда казалось, что и ее волосы трещат вместе с пшеничными прядями Жанны д'Арк, руки хрустят, зажатые палачами Остапа в страшные тиски, а ноги терзают чудовищные «испанские сапоги», предназначенные для Томмазо Кампанеллы.
Она ненавидела инквизицию, ненавидела ку-клукс-клан, ненавидела генерала Галифе.
В семнадцать лет Марина столкнулась с хиппи. Они открыли ей глаза на окружающий мир, стали давать книжки, от которых шло что-то новое, истинное и светлое, за что и умереть не жаль. Дважды она попадала в милицию, и эти люди в грязно-голубых рубашках, с тупыми самодовольными мордами навсегда перешли в стан ее врагов. Это они стреляли в Линкольна, жгли Коперника, вешали Пестеля.
Один раз Солнце взял ее «на чтение». Читал Войнович на квартире одного пианиста. Так Марина познакомилась с диссидентами. За месяц ее мировоззрение поменялось до неузнаваемости. Она узнала, что такое Сталин. Она впервые оглянулась и с ужасом разглядела мир, в котором жила, живет и будет жить.
«Господи, – думала она, – да это место на Земле просто отдано дьяволу, как Иов!»
А вокруг громоздились убогие дома, убогие витрины с равнодушием предлагали убогие вещи, по убогим улицам ездили убогие машины. И под всем под этим, под высотными сталинскими зданиями, под кукольным Кремлем, под современными билдингами лежали спрессованные кости миллионов замученных, убиенных страшной машиной ГУЛАГа…
Марина плакала, молилась исступленно, но страшная жизнь текла своим убогим размеренным чередом. Здесь принципиально ничего не менялось, реальное время, казалось, давно окостенело или было просто отменено декретом, а стрелки Спасской башни крутились просто так, как пустая заводная игрушка.
Но страшнее всего были сами люди – изжеванные, измочаленные ежедневным злом, нищетой, беготней. Они, как и блочные дома, постепенно становились в глазах Марины одинаковыми. Отправляясь утром на работу в набитом, надсадно пыхтящем автобусе, она всматривалась в лица молчащих, не совсем проснувшихся людей и не находила среди них человека, способного удивить судьбой, лицом, поведением. Все они были знакомы и узнаваемы, как гнутая ручка двери или раздробленные плитки на полу казенного туалета.
Не успевали они открывать свои рты, как Марина уже знала, что будет сказано и как. Речь их была ужасной – косноязычие, мат, неряшливые междометия, блатной жаргон свились в ней в тугой копошащийся клубок:
– Девушк, а как вас звать?
– Я извиняюсь, конешно, вы не в балете работаете?
– Вы не меня ждете?
– Натурально, у меня щас свободный график. Сходим в киношку?
– У вас глаза необычайной красоты. Красота глаз на высоком уровне.
– А я, между прочим, тут как бы неподалеку живу…
Она морщилась, вспоминая тысячи подобных приставаний в метро, в автобусе, на улице. Ей было жалко их, жалко себя. Почему она родилась в это время? За что?!
Но это была греховная мысль, и Марина гнала ее, понимая, что кому-то надо жить и в это время. Жить: верить, любить, надеяться.
Она верила, любила. И надеялась.
Надежда эта давно уже воплотилась в сокровенную грезу, предельная кинематографичность которой заставляла Марину в момент погружения забывать окружающий мир. Она видела Внуковский аэродром, заполненный морем пьяных от свободы и счастья людей: заокеанский лайнер приземляется вдали, с ревом бежит по бетонной полосе, выруливает, прорастая сквозь марево утреннего тумана мощными очертаниями. Он еще не успевает остановиться, а людское море уже течет к нему, снося все преграды.
Марина бежит, бежит, бежит, крича и размахивая руками, и все вокруг бегут и кричат, бегут и кричат. И вот бело-голубая громадина «Боинга» окружена ревущим морем голов. Открывается овальная дверь, и в темном проеме показывается ЛИЦО. Широколобое, с узкими, обрамленными шкиперской бородкой щеками, маленьким, напряженно сжатым ртом и неистово голубыми глазами. И в них, в этих мудрых, мужественных глазах великого человека, отдавшего всего себя служению России, стоят слезы.
ОН выходит из проема на верхнюю площадку подкатившегося трапа, выходит в том самом тулупчике, прижимая к груди мешочек с горстью земли русской. Людское море оживает, вскипает безумными валами, Марину несет к трапу, она оказывается у подножья, она видит ЕГО совсем близко. А ОН, там, наверху, залитый лучами восходящего солнца, поднимает тяжелую руку и размашисто медленно крестится, знаменуя Первый День Свободы.
И все вокруг крестятся, целуются, размазывая слезы.
И Марина тоже крестится и плачет, крестится и плачет.
И Солнце Свободы встает, затопляя все своим светом…– Да открыто, входите! – приглушенно донеслось из-за двери, Марина коробкой толкнула ее.
Дверь распахнулась, Марина вошла в узкий и короткий коридорчик, тесно заваленный и заставленный.
– Ау… – негромко позвала она, морщась от режущей руку коробки.
Послышалось нарастающее шарканье разношенных тапочек, Люся вошла в коридор:
– Маринка! Привет…
– Привет… держи быстро, а то руки отваливаются…
– Что это? – Люся приподняла коробку и, пошарив ладонью по обоям, щелкнула выключателем. – Ух ты, упаковано как сурово…
– Это вам.
– А что это? Диссида?
– Да нет. Разверни, узнаешь…
– Да ты раздевайся, проходи… Мить, Маринка пришла!
– Слышу, слышу, – худощавый, коротко подстриженный Митя заглянул в коридор. – Привет.
– Привет, Мить, – Марина повесила плащ на один из огромных корабельных гвоздей, поправила свитер и пошла за исчезнувшими хозяевами.
В проходной комнате никого не было – Люся на кухне распутывала цековские узлы на коробке, Митя чем-то щелкал в своей комнатенке.
Марина осмотрелась, потирая онемевшую руку.
Эта комната, увешанная картинами, книжными полками, фотографиями и репродукциями, всегда вызывала у нее желание потянуться до хруста, закурить и блаженно рухнуть на протертый тысячами задниц диван. Как много всего было в этой комнате, под матерчатым, полинявшим от табачного дыма абажуром.
Марина вдохнула, и знакомый невыветривающийся запах табака качнул память, оживляя яркие слайды минувшего: немногословный Володя Буковский ввинчивает в пепельницу сигарету, просит Делонэ почитать новые стихи… строгий молчаливый Рабин неторопливыми движениями распаковывает свою картину, на которой корчится желто-коричневый барак со слепыми окошками… бодрый, подтянутый Рой Медведев что-то быстро говорит, сдержанно жестикулируя… улыбчивый круглолицый Войнович читает «Иванькиаду», прерываясь, чтобы дать угаснуть очередному взрыву смеха… американская корреспондентка поднимает увесистый «Никон», нацелив выпуклый глаз объектива на оживленно беседующих Сахарова и Митю… весело поблескивающий очками Эткинд стремительно целует руку вошедшей Чуковской – высокой, седовласой, осанистой…
– Маринк… откуда роскошь такая? Где ты? Иди сюда! – крикнула из кухни Люся.