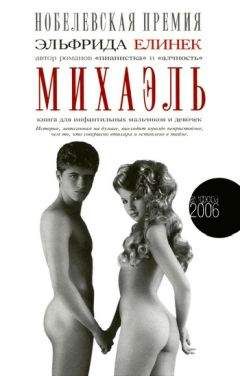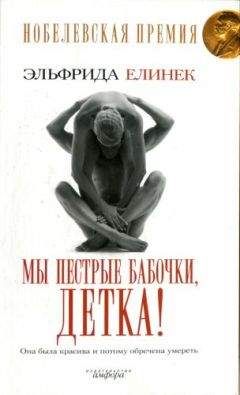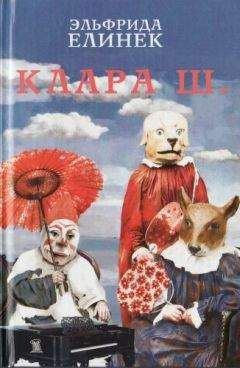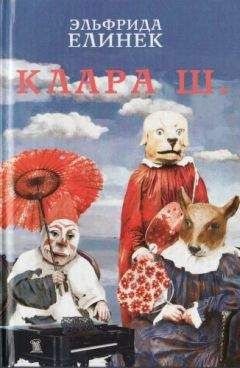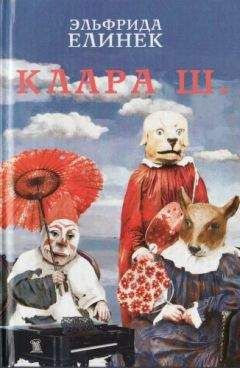Эльфрида Елинек - Дети мёртвых
Это место паломничества, эта площадка борьбы культур и мнений, которые едины, поскольку пышная католучистая церковь отталкивает всех, кто не любит взирать на её вечный свет; она есть место не для того, чтоб успокоиться, а для того, чтоб распустить перья и важно вознестись, пока не начнёшь, как облако, потихоньку капать дождичком, поскольку больше не выдерживаешь единственного бога, какой есть, держать при себе, даже в жидком виде. Воздух подхватывает и взвешивает пение и находит его слишком громким, становясь грязным, поскольку выделяется из слишком многих горл. Паломники поднатужились и исторгли нечто простенькое — прямо на ковёр: кеглевидное женское тело, подвешенное внутри национального наряда, который держится только на суровой тщательности нижней юбки. Вот дерзкие венгерские сапожки прошлись по холодным мраморным плиткам — чёрт возьми, да эта женщина — Паприка, нет, Марика!
Давайте же и вы раскройте в себе европеянку! Посветите карманным фонариком вверх на божью мать, вы не заметите различия, вы — маленький светоч, потому что и без того уже стало светло, светлее не бывает!
Кто станет лакомиться косточками, если может получить целое яблоко? Такие путы возложили на певцов: они могут в церкви просто всё, только не грызть друг друга. Свет довольно играет на наших грешных головушках. Нам нельзя на него смотреть, иначе мы узрим зло, которое есть мы сами — конфликт интересов, ведь именно это зло хочет узрить в нас бог, дадим ему время! Ради этого он издаёт то одну, то другую заповедь. Карин Френцель носит на пальце рубиновое колечко, которое когда-то было обручальным. Она стоит и дивится, куда она попала, и видит, что нагота бога совершенно исчезла за покрывалом из белой, с лёгким налётом золота парчи. Мать шипит, что надо потом зайти в молочный зал и пососать из соломинки. Потом они идут дальше в капеллу, где течёт святая вода, которую можно набрать в принесённую с собой бутылку. Её берут домой после того, как увидят завершение, когда из середины пола вырывается струя, и члены всего человечества могут поймать его в баночки из-под варенья. По мне так лучше бы верующие этой церкви, которым всем обещана вечная жизнь (но не вечный банковский счёт), кланялись и были заняты, чем выдумывать драматические сказки о замученных детях (mei liabs Andrele из Ринна, в церкви Еврейского камня в Тироле: епископ в образе орла, к сожалению, вырвал тебя из твоей исконной сточной канавы и вместе со всей кровью, которая, однако, накапала с его собственных рук, смыл с анатомического стола! За какие же золотые, обработанные молотом лучи нам теперь хвататься, после того как мы все сообща всё замяли и проехали, поскольку наше дело сторона?), чья кровь пролилась на нас и омыла нас, но не вымочила. Зато сегодня мы хотим упиться настоящей «Кровью альпийской розы»! И завтра снова будем как эдельвейсы, труднодоступные, растущие в нехоженых местах, и никто нас не возьмёт ничем, уж лучше мы сами возьмём своё.
Смотри-ка! Люди непрерывно тянутся, как тени пастбищной скотины, мимо серебряных волн, закапсулировавших в себе, как вредный гнойник, группу «мать и дитя». Весь металл сжался, как тигр перед прыжком. Рубиновое колечко Карин точечно отражается на серебряном облаке, зачаровывая взгляд. Блаженны, кто не видит, но всё-таки верит. Но мы видим, как Карин, покачивая рукой, забавляется скачущей точкой, будто световая указка из бесконечности хочет подпеть её мелодии и её собственному ритму, как люди подпевали Элвису, Мику Джаггеру или какой-нибудь из устаревших гудковых и духовых групп. Мать опускается на колени, так надо. Сейчас должен прийти кто-то посильнее Карин, а лучше бы их появилось двое, чтобы мать показала эффект, эта послушница, которую, опять же, должна безоговорочно слушаться дочь. Свет недостижим для Карин, но и она вносит свою толику точкой, которая так красиво, будто опьянённая собой, скачет по серебряным горам, по этому лучистому лугу. Только трудно её сохранить, точку. Этот цветок любви. Покровы св. пары сброшены, они слетают вниз, чтобы построить певиц, которые объединённо, едина плоть, подстраиваются одна к другой, как волны, на которых поблёскивают гребни в волосах. Во главе ковчега завета терпеливо стоит образ орла, водрузив на себя вторую голову, — ну конечно! он ведь наш двойник! — священник что-то поёт и что-то поднимает вверх, тень Карин в последний раз скользит по серебряным скалам, Яхве, медвежий лик, и Элохим, кошачий лик, возникают, один по праву, другой не по праву. Огонь и ветер вырываются изо ртов и лон женщин, которые почти все бракованные, вернее состоят в браке, вернее подлежат браку, всегда в качестве подлежащего человека, никогда в качестве надбавки сверху. И тут крошечная красная точка света вдруг останавливает свою пляску страсти. Её разбудили, а потом она снова заснула.
Карин Френцель, которая была полна решимости держать своё баварское платье в божьем пламени — гори оно огнём, как гигиеническая вата, да расплавится в её серёдке доброе семя, способное к восприятию, и высвободит огромную энергию, — уставилась на так внезапно исчезнувшее отражение рубина в альпийском серебряном озере. Её колечко! Куда оно закатилось, в какую ледниковую трещину, в какую тьму? Карин наклоняется вперёд; собственно, и сине-белая клетка её баварского платья должна была бы получить хоть временный короткий оттиск на высокомерном металле Габсбургов! Все эти женщины вокруг прикладывали к нему свои горячечные щёки и ладони и тайком выталкивали друг друга из точки зрения священника. Эти энергичные держали в руках брошюрки и вычёркивали всех остальных сильными чертами, едва успевала обсохнуть тушь, которой они вносили в себя дополнительные поправки. Гора, однако, немотствовала в ответ на стуки Карин, которая, в принципе, впервые стучала на саму себя. В то же мгновение к ней обернулась мать и скривила один из стальных уголков своих губ, поскольку дочери перед её лицом не оказалось.
а ведь должна была стоять тут как тут Мать слегка входит в ступор, это можно представить так, будто вёл собачку на поводке, глядь — а остался только поводок. Свет проходит сквозь Карин, будто она пустое место. Перед этим светом колеблются женские лона, и они пересчитаны духом, — кто же ещё возьмёт это на себя: одни уже слишком стары, а священник слишком занят раздачей облаток, глаголанием речений, пений и глав! Да! И попранием подола своей сутаны. Мать искательно поворачивается вокруг своей оси: где же её кость от кости, которая так хорошо варит? Выкладываешь все силы как женщина, чтобы создать женский образ, гордо ставишь его перед собой, а он вдруг ни с того ни с сего исчезает! Сколько бы человеческих ручьёв ни влилось сюда, в средний проход оцепеневшей и цепенящей базилиски, сколько бы их тут ни валялось, трясина за ними как была, так и останется гладкой, будто тут никогда не ступала нога человека.
Дух жизни был вырван из Карин, но она, бессильно привязанная к Ничто, осталась здесь — и всё-таки не здесь. Мать не знает, в какой Красный Крест ей бежать за помощью в поисках, и она начинает тихонько вплетаться в звучащую песню, вторым голосом, который прогибается под первым, потому что первый — это хронический поток из нового мира на востоке, у них теперь есть загранпаспорта, и они теперь, хоть и с опозданием, могут наконец увидеть себя в лицо во множестве крошечных изображений. Вялый, глинистый, увлекающий за собой всё, он устремился в богатые страны за богатством. Теперь ОНИ как минимум на тысячу лет захватят господство над гробом господним, этим пустым местом, из которого изгнанники, набитые туда, вылетают электрической дугой, как мёртвые. Одна фигура пробудилась в могиле, ещё не успев там как следует обосноваться, сейчас она находится уже снаружи от портала и жмурится на солнечный свет: сколоченный своими руками форт на реке, который разделяет людей, как воду, на два потока, но они потом быстро сбиваются вместе. Слишком утомительно огибать Ничто, которое мы создали, уж лучше войти в него! Своей неприятной сутью обязаны этому свету и мы, поэты, она придуманная, ибо как было бы ужасно, если бы мы вдруг стали личностями.
НУ КАК НЕ НАДОЕСТ то и дело являться! То и дело принимать характер самому давно знакомого, а другим пугающе незнакомого, показываться на глаза в старой заунывной, заурядной фигуре, всякий раз заново! Позади студентки Гудрун Бихлер мотается метла её длинных волос, будто заметая следы. Собственно, они приветствуют лес вставанием и поклоном головы, волосы, они реют горизонтально, словно флюгер, будто пойманные воздухом на лету. Газы иногда заставляют тело взрываться, но в этой молодой женщине они ведут себя прилично, преобразуясь в горючее; на заправке я заглядываю ей в горловину: эта женщина едет на биогазе, безвредном для окружающей среды, максимум через девяносто шесть часов после смерти мускулатура расслабляется в той же последовательности, в какой она перед тем коченела. Ну, и как вам понравился шерстяной сад? Спасибо, хорошо. Гудрун слетает по лестнице, едва касаясь ногами ступенек, лишь изредка отталкиваясь от них, как раньше дети на своих старомодных самокатах. Сегодня подавай их на роликовых подносах, не получив разрешения держать в руках руль даже на старой доброй почве. Мы, старшие, в отличие от них, делаем своим господином сон, который Гудрун, эта одиночка, легко может преодолеть: сон, почему в тебе нет правды, почему ты обман? Вот иногда лежит Гудрун в своей комнате, в которой она разместилась, хотя комната не носит никаких её следов, непонятно, почему хозяйка не сдаёт эту комнату; она уже не раз пыталась, как мне только что сказали, но по неясным причинам никакие постояльцы нынче не хотят здесь поселяться, предпочитая поехать дальше, в соседнее местечко, — в Нойберг, Прейн или в Мюрцштег. В Гудрун сон смотрит тело, а не тело сон (спящему что-то впаривается, но он лежит перед нами беззащитный), и уж если Гудрун приходит в себя, то она сама — сон. Тогда она уходит. Но ей при этом кажется, что она всегда просыпается, в любой момент, и в то же время глубоко спит, как будто её сон — недостающий объект? — и она могла бы себя из него в любой момент добыть, как железную руду, которая ведь тоже спит в земле. Сейчас она в паузе сна (или это пауза в её бодрствовании?), зевая, подходит к окну, наша Гудрун, и вешает голову, как будто кто повесил за окно сетку с Продуктами для охлаждения. Я, вообще-то, хотела придержать это наблюдение при себе, но птицы, с тех пор как я это увидела, больше не взлетают. К их присутствию привыкаешь, как охотнее всего привыкаешь к присутствию, которое, собственно, есть отсутствие, ибо птицы, в конце концов, всегда взлетают, если к ним подойти, хотя это едва замечаешь, слишком слабы их нежные воздушные подтягивания из виса. Ткк, они здесь и в то же время не здесь, но слышишь их чуть ли не постоянно. Сейчас же здесь стало так тихо, не слышно никаких пернатых, никаких животных звуков! Зато повсюду на земле видно этих животных. Поскольку лес так часто передаёт поклоны, что решаешь наконец его навестить. И когда прыгаешь в машину, чтобы последовать приглашению, окружающие, небрежно прикрыв свои манеры курткой или плащом, однако не потрудившись приглушить голоса, как это делает мягкий хлопок пробки, слышат этот слабый звук, будто кто вытащил из бутылки затычку, а это, опять же, оперённое: под колёсами лопаются живые твари. Воробьи и другие мелкие птички даже не пикнут, но вот у хозяйского индюка вчера звук был такой, будто кто ударил по надутому бумажному пакету. И вот лежит птичья каша с кукурузой, которой он перед тем наклевался. Животное распласталось покрывалом, которым приготовилось покрыть другое птичье тело, труп которого лежит теперь в метре от него. Вот так уж повелось, что можно показать горю человека свои сосуды, чтобы оно знало, где его подловят, если он пойдёт на поводу у своих слёз. Я сейчас вытрясу человека от смеха и потом быстро разверну его руководство, которое я крепко привязала к нему с той целью, чтобы он мог одним взглядом охватить свои возможности, которые он назовёт Правдой. То ли ещё будет! Всегда что-нибудь на подходе. Быть человеком — возьмите эту роль себе, она ещё свободна, пока я не размотала этот ролик. А как быть с теми, кто уже не может с нами говорить? Не беспокойтесь, ведь на это есть я.