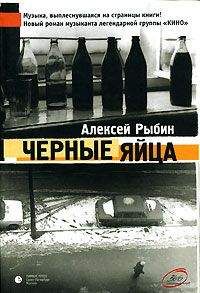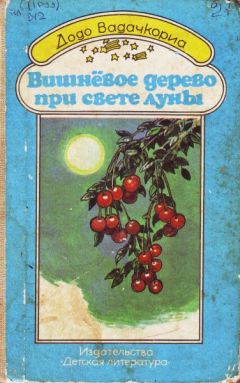Алексей Рыбин - Черные яйца
– Ну да, – отчего-то хихикая, снова встряла Нина. – А вот в вашем предыдущем романе «Петух топчет курицу» вы обратились к Серебряному веку. И все писатели, поэты, вообще творческие люди той эпохи представлены вами в чрезвычайно карикатурном виде. Даже с какой-то злостью. С каким-то садистским наслаждением вы выписываете их пороки, их маленькие слабости, представляя эти пороки и слабости важнейшими чертами их характеров и отрицая тот вклад в мировую и отечественную культуру, который они... Ну, взять, к примеру, хотя бы созданный вами образ Валерия Брюсова...
Все проходит, сказал Экклезиаст. Нет, не все. Ничто не проходит бесследно. Страшный спазм, поднявшийся из утихомирившихся было глубин желудка, скрутил Огурцова, тело его само собой завязалось сложным морским узлом, и писателя стошнило – всеми тремя бутылками коньяка и пивом, выпитым на улице Космонавтов, – стошнило прямо на россыпь диктофонов и сверкающие глянцем книги, лежащие перед ним на столе. В последний миг перед тем, как отключиться, Огурцов прочел название на одной из них. «А. Огурцов, – было написано на обложке с изображением четвертованного иностранца. – Швейцарский излом».
Еще ни разу ни один питерский писатель не срывал в московском Доме книги таких аплодисментов.
Глава седьмая
ЧЕРНЫЕ ЯЙЦА
Души мертвых уходят на запад...
В. ЛековМы красные кавалеристы, и про на-а-а-а-с...
Ночной вопль в тихом московском дворике. Середина 2001 годаВавилов быстро прошел в стеклянные двери. Кивнул охраннику в форме, сидящему в прозрачной пластиковой пуленепробиваемой будочке, поднялся на второй этаж, преодолев три лестничных пролета и два металлоискателя, предупредительно отключенные охранником снизу и снова заработавшие, как только Вавилов миновал последний, и оказался в просторном холле.
– Здравствуйте, Владимир Владимирович!
Секретарша Юля вскочила из-за длинного прилавка, уставленного телефонами, календарями, как в железнодорожных или авиакассах, чтобы посетители отчетливее представляли, какое нынче число и когда им отъезжать, объявлениями в стеклянных стоячих рамочках, извещающими о том, что через неделю – общее собрание, что через две недели – общее собрание, но только одного отдела, что через месяц шеф уходит в отпуск и его обязанности будет исполнять первый зам Якунин, кроме этого, на прилавке стояли пепельницы, лежали гелевые авторучки, зажигалки, ближе к окну – чашки для кофе, электрический чайник, сахарницы, ложечки.
– Здравствуйте, Владимир Владимирович! К вам уже...
– Привет, – бросил Вавилов. – Я вижу. Да. По одному. Ни на кого не глядя, он прошел прямо в свой кабинет, оставив за спиной с десяток посетителей, которые, завидев Самого, как по команде поднялись с мягких кожаных диванов и кресел, в обилии имеющихся в холле.
Глаза его были опущены долу, но видел он всех и каждого. Видел и мгновенно отделял зерна от плевел.
– Ну что, Артур? – спросил Вавилов, потягиваясь, – вчерашний теннис напоминал о себе. Как, впрочем, и о том, что почаще бы следовало Владимиру Владимировичу вспоминать о любимой игре. И не пренебрегать тренировками.
Застоялся конь в конюшне, явно застоялся. Такая утренняя боль в мышцах – словно напоминание о далекой молодости. Когда растут они, эти мышцы, когда молочная кислота в них вырабатывается со страшной силой – от нее и боль вся, от молочной кислоты. И изжить эту боль можно одним только образом – снова мышцы нагрузить. Тогда и рассосется. А иначе – суток трое будет мучить, заставлять кряхтеть и морщиться каждый раз, когда поворачиваться приходится или просто на стул садиться. Не говоря уже о со стула вставании.
А поворачиваться сейчас ох как приходится. Знай только поворачивайся. Не то что прежде. Иначе, если поворачиваться не будешь – нет, конечно, не хана, пережили уже ту стадию, когда хана, теперь уже не хана. Теперь может быть только покой, домик в Сан-Франциско и еще один – в глуши, в деревне, на Рублевском шоссе. Ну, конечно, почет и уважение, улыбки ресторанных халдеев, абонированные кресла на театральных премьерах, но – не то, не то. Вылететь из обоймы отстреленной гильзой – дзынь, и покатилась в грязь – нет уж, увольте. Есть еще силы, есть еще перспективы, есть еще цели. А это для человека очень важно, когда цель есть. Цель – она силы дает. А силы дают средства. А средства – хотя бы иллюзию личной свободы, независимости, любви, счастья, наконец. Иллюзию, конечно, – всякий взрослый работящий мужик с головой это скажет, но у других-то ведь и иллюзии нет. Пусть уж иллюзия будет – все лучше, чем ничего.
Впрочем, чего себя обманывать. Средства – они новые цели обозначают. Делают их видимыми. Вот и получается: цели—силы—средства—цели. Замкнутый круг.
Владимир Владимирович Вавилов весьма почитал польского фантаста Станислава Лема. Особенно – роман «Эдем». Запал в свое время жуткий образ из «Эдема» – завод, который работает сам на себя: производство элементов-деталей, сборка, технический контроль, складирование, утилизация, производство элементов-деталей... И так до бесконечности. Страшно? Страшно. Нужен такой завод? Нужен. В том-то и дело, что нужен. Вся жизнь – такой завод. Эдем. Почему Эдем? Потому что тот, кто не ужаснулся, – тот получит все.
Буддийские монахи могут очень долго, из месяца в месяц, выкладывать сложнейшую мандалу из крохотных разноцветных камешков. С тем выкладывать, чтобы потом в один миг разрушить.
Нужно это?
Нужно.
В свое время Владимир Владимирович Вавилов спонсировал международный конкурс создателей саморазрушающихся скульптур. Всю Москву на уши поставил. Вся столичная творческая интеллигенция целый месяц об этом только и говорила. А месяц для Москвы – это очень много.
И не диво. Потому что очень красиво это было. Потому что великая жизненная правда в том сокрыта, когда за неделю разрушается вещь, на создание которой уходили долгие месяцы. Не говоря уже о годах обучения, творческих поисков, ошибок, открытий, разочарований.
Владимир Владимирович Вавилов каждый день смотрел, как умирал под лучами солнца ледяной Феникс. Сначала истаяли перья, потом оплыл страдальчески раскрытый клюв, придав символу бессмертья удивительно идиотский вид. Феникс стал похож на забытую всеми старушку, доживающую свой век в грязной московской коммуналке. Прошло еще два дня – и Феникс уподобился разделанной замороженной тушке цыпленка. А еще через день от него остались лишь «ножки Буша».
В свое время на «ножках Буша» Вавилов неплохо заработал. И вспоминал о тех временах с удовольствием. Потому что и стране польза была, и ему, Вавилову. Если отбросить иронию и все рассуждения о трансгенной продукции, то чем бы спасся народ в голодные постперестроечные годы, как не пресловутыми «ножками Буша».
На ножках заработал, а на Фениксе потратился. Кто как не Вавилов платил бешеные гонорары всем этим сумасшедшим скульпторам.
Владимир Владимирович Вавилов испытывал странное, на грани с мазохизмом, удовольствие при виде оплывающих и скучнеющих ледяных и песчаных божков и чудовищ, Давидов и Голиафов.
Вся желтая пресса смаковала эволюции, а точнее, инволюции, происходившие с ледяным Давидом – точной копией статуи работы Микеланджело. На третий день у победителя филистимлян отвалился маленький, аккуратный, дотошно исполненный скульптором член, мышцы одрябли, конечности истончились, ввалилась грудная клетка, сморщились аппетитные ледяные ягодицы, а лицо опухло, сделалось пористым, бесформенным, порочным и стало напоминать одновременно нескольких поп-идолов. Еще через день Давид выглядел как законченный наркоман-джанки. Но все же простоял еще два дня. Лишь потом упал, не в силах удерживаться на артритных ногах. При падении сломал в локте руку, держащую пращу. Так и лежал, бедолага, с чудовищно увеличенной печенью, глядя в небо заплывшими, слезящимися глазами, – старый, лысый пастух-пращник, никому на свете не нужный, никем не любимый, всеми брошенный. Последнее, что оставалось у несчастного Давида от лучших времен, – его харизма. Но и та истаяла через несколько дней. И в совке дворника нашел Давид свой конец.
За Давида Вавилов заплатил фантастический гонорар. После Давида жить хотелось. Передернуться и жить. Жить и работать. Отрасль ставить. Продукты глубокой заморозки – дешево, питательно, без очереди, через каждые двести метров. Ну, и мороженое, конечно. Всевозможное. На внутренний рынок и на внешний. Экологически чистое, без наполнителей, без заменителей и консервантов.
* * *– Ну что, Артур? – повторил Вавилов. – Что-то хорошее хочешь мне сказать?
Владимир Владимирович очень хотел хороших новостей. Потянулся еще раз, чтобы снова почувствовать приятную боль в мышцах, взглянул на холодильник, в котором, как и положено, стояла бутылка коньяка «Греми», взглянул в окно – на крыше соседнего дома лежал толстый рыжий кот – хорошая примета. Он не часто выходил на крышу, кот этот. Но Вавилов уже проследил закономерность – если кот нежится на теплом железе кровли, значит, день будет удачным.