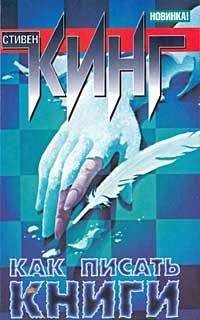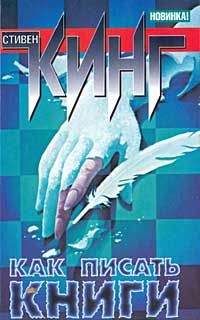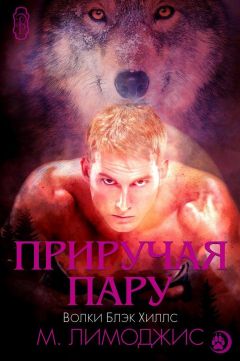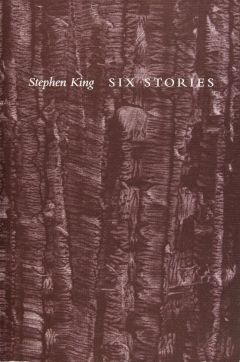Стивен Кинг - Сердца в Атлантиде
— По правде, меня Джек зовут, — сказал он.
— Да неужто? — сказал белокурый легавый из “Деревни Проклятых”.
— А вот и да, — сказал Бобби, кивая. — Джек Меридью Гарфилд. Это я.
Письма от Кэрол Гербер перестали приходить в 1963 году — том, в котором Бобби в первый раз исключили из школы и в котором он в первый раз побывал в Бедфорде — Массачусетском исправительном заведении для несовершеннолетних. Причина этой побывки заключалась в обнаруженных у Бобби пяти сигаретах с марихуаной — “веселых палочках”, как они с ребятами их называли. Бобби приговорили к девяноста дням, но последние тридцать скостили за примерное поведение. Он там прочел много книг. Ребята прозвали его Профессор. Бобби ничего против не имел.
Когда он вышел из Исправительного Клопомора, полицейский Гренделл — из Дэнверсского отдела по работе с малолетними правонарушителями — зашел к ним и спросил, готов ли Бобби свернуть с дурной дорожки на правильную.
Бобби сказал, что готов: он получил хороший урок, и некоторое время все, казалось, шло нормально. Затем осенью 1964 года он избил одного мальчика так сильно, что того увезли в больницу, и некоторое время было неясно, будет ли его выздоровление полным. Мальчик отказался отдать Бобби свою гитару, а потому Бобби избил его и забрал гитару. Бобби играл на ней (не слишком хорошо) у себя в комнате, когда за ним пришли. Лиз он объяснил, что гитару (акустическую “Сильвертон”) он купил у закладчика.
Лиз плакала в дверях, когда полицейский Гренделл вел Бобби к полицейской машине у тротуара.
— Если ты не прекратишь, я умою руки! — крикнула она ему вслед. — Я не шучу: умою, и все!
— Так умой, — сказал он, залезая в кузов. — Валяй, мам, умой их сейчас же, сэкономь время. По дороге офицер Гренделл сказал:
— А я-то думал, что ты свернул с дурной дорожки на правильную, Бобби.
— Я тоже так думал, — сказал Бобби. На этот раз он пробыл в Клопоморе шесть месяцев.
Когда он вышел, то продал свой бесплатный билет, а домой добрался на попутках. Когда он вошел в дом, мать не вышла поздороваться с ним.
— Тебе письмо, — сказала она из темной спальни. — У тебя на столе.
Едва Бобби увидел конверт, как сердце у него заколотилось. Ни сердечек, ни плюшевых мишек — она уже выросла из них, — но почерк Кэрол он узнал сразу. Он схватил письмо и разорвал конверт. Внутри был листок бумаги — с вырезанными краями — и еще конверт поменьше. Бобби быстро прочел записку Кэрол — последнюю, полученную от нее.
Дорогой Бобби!
Kак поживаешь? У меня все хорошо. Тебе пришло кое-что от твоего старого друга, того, кто тогда вправил мне плечо. Оно пришло на моем адрес, потому что, наверное, он не знал твоего. Вложил записочку с просьбой переслать его тебе. Ну и вот! Привет твоем маме.
Кэрол.
Никаких новостей об ее успехах в группе поддержки. Никаких новостей о том, как у нее обстоят дела с математикой. И никаких новостей о мальчиках, но Бобби догадывался, что их у нее перебывало уже несколько.
Он взял запечатанный конверт дрожащими руками, а сердце у него колотилось сильнее прежнего. На передней стороне мягким карандашом было написано лишь одно слово. Его имя. Но почерк был Теда, он его сразу узнал. Во рту у него пересохло, и, не замечая, что его глаза наполнились слезами, Бобби вскрыл конверт. Вернее, конвертик, как те, в которых первоклашки посылают свои первые открытки в день святого Валентина.
Из конверта вырвалось благоухание, прекраснее которого Бобби вдыхать не доводилось. Он невольно вспомнил, как обнимал мать, когда был крохой, — аромат ее духов, дезодоранта и снадобья, которое она втирала себе в волосы; и еще он вспомнил летние запахи Коммонвелф-парка, а еще он вспомнил, как пахли книжные полки в Харвичской публичной библиотеке — пряно и смутно и почему-то взрывчато. Слезы хлынули из глаз и потекли по щекам. Он уже привык чувствовать себя совсем старым, и ощущение, что он снова молод, сознание, что он способен снова ощущать себя молодым, явилось страшным, ошеломляющим шоком.
Не было ни письма, ни записки — вообще ничего. Когда Бобби перевернул конверт, на его письменный стол посыпались лепестки роз — самого глубокого, самого бархатного красного тона, какой только ему доводилось видеть.
"Кровь сердца” — подумал он с восторгом, сам не зная почему, и впервые за много лет вспомнил, как можно отключить сознание, поместить его под домашний арест. И не успел он подумать это, как почувствовал, что его мысли воспаряют. Розовые лепестки алели на изрезанной поверхности его стола, как рубины, как потаенный свет, вырвавшийся из потаенного сердца мира. “И не просто одного мира, — подумал Бобби. — Не просто одного. Есть другие миры, кроме этого, миллионы миров, и все они вращаются на веретене Башни”.
А потом он подумал: “Он снова спасся от них. Он снова свободен”.
Лепестки не оставляли места сомнению. Они были всеми “да”, которые могли кому-либо понадобиться. Всеми “можно”, всеми “можешь”, всеми “это правда”.
"Вверх — вниз, понеслись”, — подумал Бобби, зная, что слышал эти слова прежде, но, не помня где, не зная почему, вдруг вспомнил их. Да это его и не интересовало.
Тед свободен. Не в этом мире и не в этом времени — на этот раз он бежал куда-то еще.., но в каком-то другом мире.
Бобби сгреб лепестки — каждый был точно крохотная шелковая монетка. Они будто заполнили кровью его горсть. Он поднес их к лицу и мог бы утонуть в истекающем из них аромате. Тед был в них. Тед, как живой, с его особой сутулой походкой, с его белыми, легкими, как у младенца, волосами и желтыми пятнами, вытатуированными никотином на указательном и среднем пальцах его правой руки. Тед и его бумажные пакеты с ручками.
И как в тот день, когда он покарал Гарри Дулина за боль, причиненную Кэрол, он услышал голос Теда. Но тогда это было больше воображением. На этот раз, решил Бобби, голос был настоящим, запечатленным в розовых лепестках и оставленным в них для него.
"Довольно, Бобби. Хватит, Удержись. Возьми себя в руки”.
Он долго сидел за письменным столом, прижимая к лицу розовые лепестки. Наконец, стараясь не обронить ни единого, он ссыпал их в конвертик и опустил клапан.
"Он свободен. Он.., где-то. И он помнит”.
— Он помнит меня, — сказал Бобби. — Он помнит МЕНЯ. Он встал, зашел на кухню и включил чайник. Потом прошел в комнату матери. Она лежала на кровати в комбинации, положив ноги повыше, и он увидел, что она начинает выглядеть старой. Она отвернула лицо, когда он сел рядом с ней — мальчик, который теперь вымахал почти во взрослого мужчину, — но позволила ему взять ее руку. Он держал ее руку, поглаживал и ждал, когда чайник засвистит. Потом она повернулась и посмотрела на него.
— Ах, Бобби, — сказала она. — Мы столько всего напортили, ты и я. Что нам делать?
— То, что мы сможем, — сказал он, поглаживая ее руку. Потом поднес к губам и поцеловал там, где линия жизни и линия сердца ненадолго слились, а потом разветвились в разные стороны. — То, что мы сможем.
1966: И мы хохотали, просто не могли остановиться!
СЕРДЦА В АТЛАНТИДЕ
Глава 1
Когда я прибыл в Университет штата Мэн, на бампере старенького “универсала”, который я унаследовал от брата, еще красовался налепленный призыв голосовать за Барри Голдуотера — порванный, выцветший, но еще удобочитаемый: АuН2 0-4 — USA <Gold-water-four-USA — “Голдуотер для США”.>. Когда я покинул университет в 1970 году, машины у меня не было. Но была борода, волосы до плеч и рюкзак с налепленной надписью: “РИЧАРД НИКСОН — военный преступник”. Значок на воротнике моей джинсовой куртки гласил: “Я ВАМ НЕ ЛЮБИМЫЙ СЫН”. Как мне кажется, колледж — всегда время перемен: последние сильные судороги детства. Но сомневаюсь, чтобы когда-либо перемены эти были того размаха, с какими столкнулись студенты, водворившиеся в студгородки во второй половине шестидесятых. В большинстве мы теперь почти не говорим о тех годах, но не потому, что забыли их, а потому, что язык, на котором мы говорили тогда, был утрачен. Когда я пытаюсь говорить о шестидесятых, когда я хотя бы пытаюсь думать о них, меня одолевают ужас и смех. Я вижу брюки клеш и башмаки на платформе. Я ощущаю запах травки, пачули, ладана и мятной жвачки. И я слышу, как Донован Лейч поет свою чарующую и глупую песню о континенте Атлантида — строки, которые и сейчас в ночные часы бессонницы кажутся мне глубокими. Чем старше я становлюсь, тем труднее отбрасывать глупость и сберегать чары. Мне приходится напоминать себе, что тогда мы были меньше — такими маленькими, что могли вести наши многоцветные жизни под шляпками грибов, твердо веруя, будто это — деревья, укрытие от укрывающего неба. Я знаю, что, в сущности, тут нет смысла, но это все, на что я способен: да славится Атлантида!
Глава 2
Мой последний год в университете я прожил не в общежитии, а в Поселке ЛСД из полусгнивших хижинок на берегу реки Стилуотер, но когда я только поступил в Университет Мэна в 1966 году, то жил в Чемберлен-Холле, одном из трех общежитии: Чемберлен (мужское), Кинг (мужское) и Франклин (женское). Была еще столовая — Холиоук-Холл — чуть в стороне от общежитии, совсем недалеко, не больше чем в одной восьмой мили. Но в зимние вечера, когда дул сильный ветер, а температура опускалась ниже нуля, расстояние это казалось очень большим. Настолько большим, что Холиоук получил название “Дворец Прерий”, В университете я научился очень многому, и меньше всего в аудиториях. Я научился, как целовать девушку, одновременно натягивая презерватив (очень нужное искусство, часто остающееся в небрежении), как одним духом выпить банку пива и не срыгнуть, как подрабатывать в свободное время (сочиняя курсовые работы для ребят богаче меня, а таких было большинство), как не быть республиканцем, хотя я происходил от длинной их череды, как выходить на улицы, держа над головой плакат и распевая во всю глотку: “Раз, два, три, четыре, пять, хрен мы будем воевать” и “Джонсон, а на этот час скольких ты убил из нас?”. Я научился держаться против ветра, когда пускали слезоточивый газ, а не получалось — так медленно дышать через носовой или шейный платок. Я научился падать набок, подтягивать колени к подбородку, когда в ход шли полицейские дубинки, и закрывать ладонями затылок. В Чикаго в 1968 году я научился и тому, что легавые умеют выбить из тебя все дерьмо, как бы ты ни свертывался и ни закрывался.