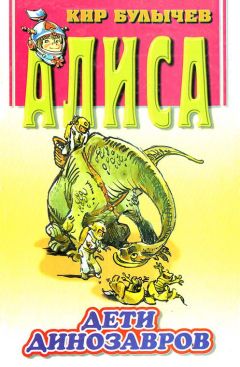Андрей Темников - Зверинец верхнего мира
Звуки в доме, – мы вернулись слишком поздно для того, чтобы она могла устроиться в своем любимом кресле, – эти звуки, будто бы привычные для нее, вдруг оказались пугающими. Сначала я даже разозлился: она тут не первый день, так чего же вздрагивать, если зверьки бегают по чердаку, а по крыше с шорохом метлы проходится вишневая ветка. Кокетка? Больная? Не пойму, но только она при всяком скрипе и дребезжании замирала с тревожно открытыми глазами, оценивала его, узнавала, переводила взгляд на меня и мстительно, словно маленькими дозами принимает какой-то яд, говорила: «Боюсь!» Нелегко мне было успокаивать ее, мой язык заплетался после бессонной ночи, а она стояла посередине дома, на одинаковом удалении от вещей и стен, и, прижав руки к груди, слушала, и когда я открыл шкаф, чтобы переодеться, и его стеклышки дрогнули, тоже сказала: «Боюсь!»
Но пуще всего пугали желуди. Каждый порыв ветра горстями сбрасывал их с моего дуба, редкого по высоте (должно быть, ему два с половиной века, не меньше), и это были тяжелые, перезрелые желуди, каких уже мало оставалось к началу октября.
Высота дерева делала их стук очень сильным, они, как пули, били по всему без разбора. Били в рыхлую землю, и звук был глухим, барабанили в крышу и пробивали навылет ветхий рубероид, и прыгали по чердаку, сухо стучали по доскам наклонившегося забора и, отскакивая, находили в листве какую-то склянку или камень. Ей казалось, что под окнами кто-то ходит, и мои уговоры перестали действовать: она лежала на кровати лицом вниз, плечи ее вздрагивали от каждого удара, будто все желуди с силой били ее по спине. Возможно, и тогда она говорила про себя: «Боюсь! Боюсь!» – но я не слышал от нее ни слова.
Нужно было что-то сделать, нужно было как-то разрушить ее страх. Я растерянно оглядел мою комнату и увидел у стены под окном вот это корыто. Лужица в виде восклицательного знака с рыжим краем осталась у него на дне. Как-то раз в мое отсутствие она все же вымылась в нем. С того вечера корыто так и стояло в доме, не помню, почему оно на свой гвоздь не вернулось. Я подхватил его одной рукой и, грохоча обо все косяки, понес его в сад. Там я устроил его вверх дном в подножии дуба. Там оно с того вечера и лежит.
Какое-то время я еще простоял под окнами дома. Меня распирала гордость за собственное изобретение – мальчишеская гордость: подвязать пустую банку к кошачьему хвосту, запустить рычащего змея, приделать обрезок открытки так, чтобы он на ходу перебирал спицы велосипедного колеса. И еще я думал о ксилофонах, металлофонах, всяких других веселых барабанчиках, и даже забыл мою маленькую Алю. Даже поднимаясь по лестнице, я еще задержался, чтобы послушать глухую корытную чечетку.
И тогда я услышал, как взвизгнули пружины нашей кровати, потом раздались Алины быстрые громкие шаги. Аля вышла. Она встала надо мной на крыльце и спокойно и очень серьезно сказала, напучив губы: «Теперь я выше тебя», – так как она не сняла еще своих красных туфель и не распустила строгой прически. И тогда мы так тесно прижались друг к другу, что я не сумел разобрать, у кого из нас от голода бурчит в животе.
Ветер задул холодный. Мы ушли в дом готовить ужин. Ожидая, пока замурлычет чайник и прислушиваясь к желудиному грохоту за окном, она смотрела на меня так, как не смотрела больше никогда. Обыкновенно она свои чувства прятала в капризах и недовольстве, но теперь не стыдилась восхищения. И что бы я потом ни делал, как ни старался спасти наши отношения, мне никогда больше не удавалось такого взгляда заслужить.
Затихал, переходя к ровному кипению, чайник, желуди все чаще и чаще грохотали в дно железного корыта, ветер усиливался. Казалось, что начинается дождь.
«Ты такой красивый, – мягко говорила Аля. – Что же нам с тобой делать? Вот и Людмила в тебя уже влюбилась…»
Людмила – так звали Пронину.
КИНЖАЛЬЧИК, ПОТЕРЯННЫЙ МОЕЙ БАБУШКОЙ
Был такой веселый вечер, когда ему сказали: «Что же об этом ты еще не написал рассказа?» А он серьезно поморщился и ответил, что дал зарок никогда о таких вещах не писать. Видите ли, это значит слишком сильно будоражить воображение заботой, более проникновенной, чем литература. И была еще причина. Не отступай он от буквы истинных событий, все было бы слишком сияющим и наивным, как на цирковой арене или в кино, когда смотришь фильм «На окраинах Парижа», и клошар сказочно мил, точно какой-нибудь гном, и не слышно запахов, исходящих от бродяги, так что можно даже съесть булку. И верно, если он отдавал себе труд перечитывать письма, которые Наденька писала ему в село Измайловка, откуда он вернулся через полтора месяца, чтобы навсегда с ней рассориться, или заставлял работать изощренную привычкой к фантазиям память, то все окружающее вставало перед ним как будто усеянное блестками бертолетовой соли, теплыми кристалликами искусственного снега. Снег и не мог быть настоящим. Он всегда выходит именно таким искусственным снегом, бутафорским, киношным, выморочным. Но только сквозь его пелену он решался смотреть и на летнюю реку, и на людей в купальных костюмах, и на однорукого бомжа, который утром приходил вонять в кинозал (и там они с Наденькой занимали места подальше от него), а вечером собирал на пляже окурки. Наблюдая за ним, пока не пришел «пароходик», они с Надей все никак не могли понять, зачем от выбирал из песка не только длинные окурки, но и черные, крохотные камешки, – только черные, – или, может быть, угольки.
– Моццикони! – воскликнула Наденька.
Он тогда еще не читал этой книжицы, и пока, разгуливая по песку, мужик складывал в кожаную кошелку, висевшую на обрубке руки, угольки или черные камешки, а «пароходика» все не было, Надя рассказала о бродяге, ушедшем жить под мост, и этот бродяга был из Рима. Его звали Моццикони, что значит «окурок» или «бычок».
– Кто это написал?
– Малерба. Луиджи Малерба. Издано «Детской литературой». Серьезные люди детских книг не читают!
Получив локотком в бок, он заговорил о Малербе, чтобы спасти себя в ее глазах. Малерба? Как? Я тебе о нем еще ничего не рассказывал?
Очень возможно, что именно такой какой-нибудь разговор и подслушала по телефону Наденькина мама. Его ноги вечно коченели от долгого стояния, а испарения мочи, которыми был пропитан пол телефонной будки и которые чувствовались даже на холоде, наконец перестали щипать ему глаза. Находил же он такую будку на малолюдном углу, что позволяло ему разговаривать с Наденькой часами. А о чем можно было говорить, зная, что на кухне у них есть спаренный телефон? Только о французской литературе.
– Алеша на Наденьку очень хорошо влияет. Можете себе представить, она вдруг стала проявлять интерес к французскому языку, хотя в школе едва знает свой немецкий, и просила меня купить ей пластинки для курса начинающих и продолжающих совершенствовать…
Когда в действительности Наденькина мама все это выговорила, несказанно польстив бабуле, он того не помнил, но почему-то ему нравилось думать, что все это было сказано после весеннего вечера в Клубе иностранных языков (был и такой), когда тщеславные старшеклассники выступали со сценками, стихами и песенками сразу на трех языках. Звучало, разумеется «Бэк ин ЮэСэСАр» – дирекцией дворца было одобрено в качестве пародии. В зале сидели педагоги, родители. Он пригласил Наденьку, Наденька пришла с мамой, которая никогда и ни за что не отпустила бы ее одну так поздно. А за ним увязалась бабуля. Среди учителей ее многие знали, помнили, боялись по студенческой привычке и восторгались ее смольноинститутским образованием, а потому бабуля удостоилась почетного места в первом ряду. Там она и просидела, грузная, величественная, в платье, заколотом на груди старинною брошкой – подобие античной геммы, – держа между колен палку, обмотанную медной проволокой на конце, из которого торчало рабочее жало железного гвоздя. Щеки ее, начинающие худеть, висели неподвижно, как маленький камешек, постукивала во рту о вставные челюсти барбариска. С таким чревовещательным видом и вся прямая, как жердь, даже не шевеля губами, бабуля могла употребить барбарисок тридцать за вечер, но это на работе или на ходу. Дома ее ждали любимые шоколадные конфеты.
Бабулю было жалко, но все же он хотел доставить себе удовольствие и ни на йоту не отошел от намеченной программы. А краем глаза наблюдал за тем, как она приходит в негодование. Были и учителя образованные, и они переглядывались: кто разрешил? Разве Бретон не троцкист? Не… а этот (надо узнать, можно ли произносить его фамилию). Разве его где-нибудь изучали? И спросить бы у его бабушки, у Александры Ивановны, что такое vae soli.
И тогда, конечно, ничего не понимавшая Наденькина мама кинулась к бабуле, чтобы, сама того не желая, спасти его от скандала. Скандал разразился дома. Некоторые книги бабуля пригрозила спрятать, а потом продать… Наденькина мама не замечала ни возмущения учителей, ни зловещей маски на лице бабули, когда он поддерживал бабулино пальто с облезлым, некогда дорогим песцовым воротником, не заметила она и того, что Наденька, посвященная в тайну vae soli, беззвучно смеется. И по пути домой Наденькина мама не давала бабуле вставить ни слова, все нагнетая, нагнетая глухую бабулину злость искренними восторгами в адрес Алеши, их дружбы с Наденькой и той высокой духовности, какую теперь не часто встретишь среди старшеклассников.