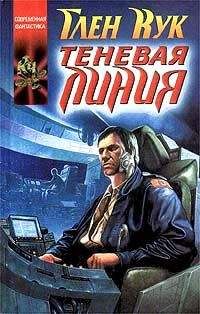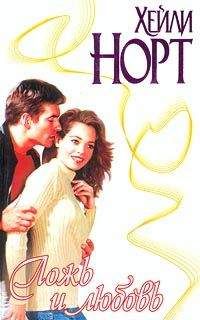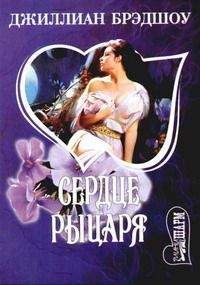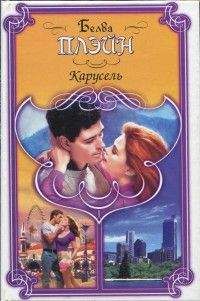Ян Кефелек - Осмос
В первые дни Марк ухаживал за Пьером, как преданная сиделка, всячески ему угождая. Он сам кормил его с ложечки, размачивая хлебный мякиш в подслащенном молоке. Два раза на дню он менял ему повязку на голове, осторожно отдирая пропитавшуюся кровью марлю плоскогубцами (за неимением пинцета), предварительно прокаленными на огне. Он спал рядом с ним на голом полу, на кафеле, и постоянно ласкал горячую руку Пьера, приговаривая:
— Я здесь, малыш!
Марк клал Пьеру на лоб мокрую майку, чтобы облегчить страдания от высокой температуры, он прислушивался к его хриплому, прерывистому дыханию. Он засыпал, когда засыпал Пьер; он думал о Нелли.
— Ну, малыш, что это ты там говорил о своем уме?
Когда Пьер перестал отвечать на этот вопрос, Марк из этого факта сделал вывод, что температура у него падает, когда же Пьер по сему поводу выразил недоумение, он сказал себе, что температура у парня опустилась ниже 40, и окончательно успокоился. Он помог сыну подняться в его комнату, надеть пижаму; он сменил на его постели белье, поставил у изголовья бутылки с водой.
— Ну вот, тебе уже лучше, ты выздоравливаешь. До вечера, малыш.
Укутанный по самый подбородок одеялом, Пьер дрожал от озноба; он ничего не ответил, а только взглянул на Марка бесконечно усталыми глазами, вокруг которых виднелись черные круги. Услышав, как внизу взревел мотор отцовской машины, Пьер улыбнулся неким подобием улыбки.
Вечером он не увидел отца, не увидел он его и в последующие дни. У него создалось впечатление, что он один в доме, всегда один. По ночам было поразительно тихо, машина не парковалась с привычным пофыркиванием, дверь не скрипела. Как только Пьер пытался спустить ноги с кровати и встать, у него начинала кружиться голова, и он с большими предосторожностями укладывался обратно в постель. В голове его постоянно звучали чьи-то низкие голоса, говорившие ему, что он очень умный, очень толковый, очень способный мальчик, потом его просили все это повторить, и он послушно повторял. Эта непрекращающаяся болтовня утомляла его до изнеможения. Чтобы хоть немного развлечься, он придумывал различные варианты: «Я очень умный мальчик, и я таю, как кусок масла, я испаряюсь». Иногда он видел огромное красное солнце, ощетинившееся тысячами и тысячами острых игл. Он многократно встретил Рождество, один и без особых причин для радости, задувал свечи на пироге какого-то странного, сероватого цвета, поблескивавшего как старое потускневшее серебро, но свечи не хотели гаснуть, они вспыхивали вновь и вновь сами собой, вспыхивали в такт, словно подчиняясь ритму какой-то неразличимой для человеческого уха музыки. Вокруг него вставали чьи-то тени, они напускали на него чары, они творили волшебство, но в какой-то момент они стали подчиняться его воле, и он уже по своему вкусу мог приказать одним теням сменить другие, мог попросить их сотворить другое чудо вместо того, что не вызывало у него особого восторга. Он не забыл, какая тень возникала на стене, когда «она» принимала ванну в дальнем углу комнаты, точно так же как не забыл и о том, как «она» ради забавы, весело смеясь, брызгала на него водой и как мелкие капельки падали ему на лицо и руки. Не было никакого различия между тем дальним углом комнаты и тем краем света, куда он не даст себе труда отправиться, чтобы ее там пытаться искать. Он вспоминал ванну, стоявшую около кровати и так походившую на колыбель… Не забыть бы посмотреть, кто спит в этой колыбели… Разумеется, он забыл многое из того, что «она» говорила, за время «ее» отсутствия услышал много чего другого, и одиночество сидело в нем и говорило как живое существо. «Когда мне того хочется, я приподнимаю одеяло, под которым прячется моя мама, и мы танцуем с ней в окружении артистов, мы с ней кружимся, мы танцуем лучше всех, словно подхваченные порывом ветра, мы с ней стремительно несемся по городу, мы заглядываем в мэрию, чтобы увидеть господина мэра, заглядываем в лицей, чтобы повидать моих приятелей, мадемуазель Мейер, других преподавателей. Эй, послушайте, мы здесь! Но поторопитесь воспользоваться моментом, потому что нас уже ждут в другом месте. Я действительно очень умен». Пьер метался в постели, пытаясь утешить кого-то, кого он больше никогда не увидит.
В один прекрасный день, который, быть может, был всего лишь одним из «плодов его воображения» наряду с другими такими же «плодами», Пьер заснул мирным, тихим, спокойным сном. Вероятно, он мог бы спать и спать на протяжении долгих лет, если бы его не разбудил звонкий женский смех. Он спустился вниз по лестнице. Его отец, видимо, как рухнул на диван, так и заснул, держа в руке транзисторный приемник. Пьер хотел было выключить приемник, но в этот момент пальцы Марка разжались, и приемник упал на пол. Женщина продолжала хохотать, как сумасшедшая. Пьер полез под диван и на ощупь, действуя осторожно, чтобы не сработал механизм, складывающий диван, пошарил под ним; он извлек из-под дивана приемник и какую-то официальную бумагу, которую и утащил к себе наверх, чтобы прочесть без помех.
Это было официальное письмо или уведомление.
Господин Лупьен,
извещаю вас, что в результате работы драги, осуществлявшей очистные работы в соответствии с комплексом мероприятий, предписываемых таможенной службой, 10 апреля сего года со дна пруда Бер был поднят обгоревший остов моторной яхты.
Среди обломков была найдена дорожная сумка, специально предназначенная для морских путешествий. В непроницаемом отделении был обнаружен бумажник, принадлежавший некой мадемуазель Нелли Коллине. В карточке медицинской страховки было указано имя господина Марка Лупьена, к которому следовало обратиться в случае, если с ее владелицей произойдет несчастье. В службе учета населения нашей префектуры мне сообщили, что вы — единственный, кто носит такое имя и такую фамилию в нашем регионе. Соблаговолите посетить мою контору не позднее 31 мая сего года.
* * *На следующее утро Пьер проснулся и увидел, что Марк стоит около его кровати.
— Ну так что, малыш, как насчет ума?
— Хватит нести всякий вздор!
— Все, ты выздоровел. Можешь мне поверить, ты здорово меня напугал. Нам пришлось упорно бороться с болезнью. Я уж даже было подумал, что ты никогда не выкарабкаешься. Но ничего, все прошло. Надо будет тебе только поднабрать весу, а то ты отощал.
Он подошел к окну, чтобы раздвинуть шторы.
— Где ты был?
Ответ последовал, но как бы с запинкой:
— Я… я был здесь, а где же мне еще было быть?
А затем Марк как бы поспешил скрыть свои слова, скрыть их следы, уподобившись собаке, которая, опорожнив кишечник, скребет задними лапами песок, чтобы забросать оставшуюся позади кучку.
— Да не будь ты таким подозрительным. Мы с тобой очень устали, и ты и я.
Он сменил Пьеру повязку, порадовался тому, как выглядит рана; сел на постель.
— Знаешь, малыш, я ведь продал дом. Летом мы уедем из этого городишки. Нам надо будет еще уладить много дел, решить множество вопросов. И конечно же, никому пока ни слова!
Пьер никак не прореагировал на эту новость.
— Мы поедем в Испанию. Ну как, доволен? Ты вроде бы хотел в Йемен, но это оказалось немного сложновато. В Испании нам будет хорошо. Именно там мы обоснуемся после того, как несколько месяцев проведем в Париже. Да, кстати, мне надо будет поговорить с тобой о твоей матери.
— Мне тоже.
XVI
«Обычная драка», — решили в большинстве своем лумьольцы, смотревшие телевизор. На экране было лицо Пьера, правда, изображение было специально смазано, якобы для того, чтобы сохранить его инкогнито, но затем показали Марка, сидевшего за рулем и с мрачным видом объяснявшего, что он не желает публично выражать свое мнение по поводу этой драмы прежде, чем он получит определенные доказательства и будет иметь согласие сына, пребывающего по-прежнему в состоянии шока.
«Здорово ему накостыляли, так ему и надо, ведь он нас так подставил!» — сказали незадачливые самодеятельные артисты. «Требуем мщения! Репрессий! Чистки общества!» — завопили хором вечно всем недовольные обыватели, людишки, чей разум всегда занят поисками заклятого врага, на которого можно было бы свалить все свои неудачи. И словно посеянный ими ветер злого возбуждения забушевал над холмом, на котором стоял Лумьоль. Первого мая с неба посыпалась снежная крупа, дороги превратились в мерзкое месиво, ландыши в перелесках померзли, не успев распуститься. Проведение выставки цветов было отложено на более поздний срок, перенесли и торжественное шествие школьниц, одетых обычно в очень легкие платья с приделанными к ним крылышками из тюля. Местный торговец оружием удвоил за один день свой месячный торговый оборот, продал весь запас и даже уступил кому-то четыре кельтских ножа, украшавших витрину его лавчонки. В магазинах раскупили все решетки на окна, газовые баллончики и молотый перец, все палки, которые можно было назвать дубинами, вплоть до кухонных скалок, а также все штанишки с пуговицами и петельками, предназначенные для маленьких девочек; кстати, по местному радио передали обращение к родителям с просьбой не выпускать детей на улицу одних, без взрослых, в особенности девочек, или уж в крайнем случае отпускать по двое. Каждое утро управляющие и распорядители таких заведений, как дискотеки, а также охранники заполняли городское управление полиции, где воцарился боевой дух и где все были настроены бороться со злом не на жизнь, а на смерть. Редактор местной газетенки воспользовался случаем, чтобы посвятить вкладку проблеме преступлений на сексуальной почве, опубликовав многочисленные интервью с урологами, сексопатологами и историками, спорившими друг с другом по поводу того, какие на протяжении многих столетий существовали в человеческом обществе способы осуществления сексуального насилия человека над своим ближним, способы интимных контактов, имевших место против воли одного из партнеров.