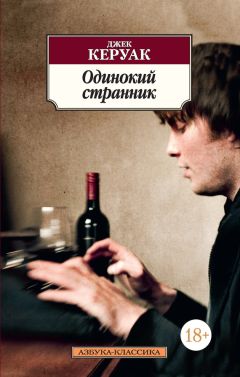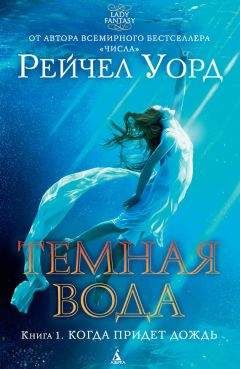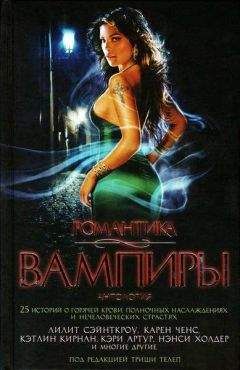Джек Керуак - Море – мой брат. Одинокий странник (сборник)
– Эй, папаша! Не слишком усердствуй.
Человек поднял глаза и счастливо улыбнулся:
– Осторожнее! – крикнул он, улюлюкая от восторга, опершись на лопату. – Ты не просекаешь – я не надрываюсь! Ху-ху-ху!
– Так и надо, папаша! – сказал Уэсли, с улыбкой обернувшись.
– Клянусь Богом, – продолжил Эверхарт, поправляя очки, – будь сейчас тысяча семьсот шестидесятый, я бы шел на Запад с трапперами, исследователями и охотниками! Я не силен, видит Бог, но я хочу жизнь с целью, с силой неистовой и, кроме того, могущественной. Здесь, в Колумбии, я преподаю – и что? Я ничего не достигаю; мои теории приняты, не более того. Я видел, как идеи принимались и откладывались для справки… поэтому я давным-давно бросил писательство. Мне сейчас тридцать два, я ни за какие коврижки не напишу книгу. Нет смысла. Эти исследователи с рысьими глазами – вот они были американскими поэтами. Великими поэтами поневоле, которые видели холмы на Западе, и им этого хватало, и все, им не требовалось сочинять рапсодии – сами их жизни делали это мощнее Уитмена! Ты много читал, Уэс?
Они уже вышли на Бродвей и неторопливо шагали по просторному тротуару. Уэсли остановился, чтобы очистить апельсин над мусорной урной, нахмурился с угрюмой жалостью и после паузы сказал:
– Знавал я одного молодого моряка по имени Люсьен Смит, так он, бывало, заставлял меня читать, а то читал я маловато. – Он медленным, задумчивым броском отправил в урну последний кусок кожуры. – Люк в итоге заставил меня прочитать книгу; он был хорошим малым, и мне хотелось, чтоб он почувствовал, будто оказал мне услугу. И я эту его книгу прочитал.
– И что это было?
– «Моби Дик», – припомнил Уэсли.
– Германа Мелвилла, – добавил Эверхарт, кивая.
Уэсли разломил апельсин надвое и протянул половинку другу. Они зашагали дальше, жуя.
– Так что я прочитал «Моби Дика»; я читал медленно, по пять страниц за ночь, – знал, что малый будет расспрашивать.
– Понравилось? – спросил Эверхарт.
По-прежнему серьезно супясь, Уэсли выплюнул апельсиновое зернышко:
– Да, – ответил он.
– И о чем этот малый, Смит, тебя спрашивал? – упорствовал Эверхарт.
Уэсли в беспокойстве обернулся к нему и воззрился пристально.
– Всякие вопросы, – в конце концов сказал он. – Всякие. Смышленый был малый.
– Помнишь какие-нибудь? – Эверхарт улыбнулся, подмечая собственную пытливость.
Уэсли пожал плечами:
– Не тотчас.
– Где он теперь?
– Малый?
– Да…
Насупленность Уэсли исчезла, вместо нее на отвернувшемся лице проступила невозмутимая, почти дерзкая твердость.
– Люсьен Смит, он пошел ко дну.
Эверхарт бросил хмурый взгляд на товарища:
– В смысле, торпедирован и утонул? – Эверхарт произнес это, будто не поверил, и тотчас затараторил: – Он погиб? Когда это случилось? Почему… где это было?
Уэсли сунул руку в задний карман со словами:
– У Гренландии прошлым январем.
Он вытащил моряцкий бумажник – большую плоскую штуку с цепочкой.
– Вот его фотография, – сказал он, протягивая Биллу маленький снимок. – Хороший был малый.
Эверхарт взял снимок, хотел сказать что-то еще, но нервно осекся. Печальное лицо смотрело на него с фотографии, но он слишком смутился и больше ничего не разобрал: сумрачный Уэсли, шум улицы, набирающей темп к новому дню, радостное тепло солнечного света и музыка из ближайшего радиомагазина – все уносило это измученное маленькое лицо с грустными глазами куда-то далеко, в одиночество и забвение, в нереальное королевство, несущественное, как крошечный клочок целлулоидной бумаги в пальцах. Билл отдал фотографию и ничего не смог сказать. Уэсли не взглянул на снимок, засунул его обратно в бумажник и спросил:
– Где продаются яйца?
– Яйца… – эхом отозвался Эверхарт, медленно поправляя очки. – Двумя кварталами дальше.
На обратном пути, нагруженные пакетами, они говорили очень мало. Перед баром Уэсли показал на дверь и слегка улыбнулся:
– Мужик, давай зайдем и слегка позавтракаем.
Эверхарт последовал за своим спутником в прохладный мрак бара, где пахло чистотой и свежим пивом, и сел у окна, где солнце плоскими полосами ложилось на стол сквозь жалюзи. Уэсли заказал два пива. Эверхарт опустил взгляд и заметил, что у друга нет носков под мокасинами, – его ноги покоились на латунной перекладине с невозмутимостью, которая словно пропитывала все его бытие.
– Сколько тебе лет, Уэс?
– Двадцать семь.
– Давно ходишь по морям?
Угрюмый бармен поставил перед ними пиво, Билл бросил четвертак на стойку из красного дерева.
– Уже шесть лет, – ответил Уэсли, поднося золотистый стакан к солнцу и наблюдая за бурлением всплывающих пузырьков.
– Беззаботно живешь, а? – продолжил Эверхарт. – Портовые оргии, а потом снова в море, и так далее…
– Верно.
– Тебе, я так думаю, не с руки пустить корни в обществе, – задумчиво произнес Эверхарт.
– Пробовал однажды, пробовал, как ты говоришь, пустить корни… У меня была жена, ребенок на подходе, верная работа, дом. – Уэсли прервался и запил горькие мысли. Но продолжил: – Расстались, когда ребенок родился мертвым, такая вот бодяга: я отправился в путь, слонялся по всем Штатам, в результате ушел в моря.
Эверхарт сочувственно слушал, но Уэсли уже досказал.
– Ну, – вздохнул Билл, шлепнув по барной стойке, – я в тридцать два необыкновенно свободен и удачлив, но, честно говоря, я не счастлив.
– Ну и что! – возразил Уэсли. – Быть счастливым хорошо в меру, но другое стоит большего.
– Такое утверждение следовало бы сделать мне или какому творцу, о чьих работах я рассказываю, – рассудил Эверхарт, – но от тебя, явно бесшабашного повесы с чутьем на женщин и тройной вместимостью выпивки, это слышать странно. Ты что, не счастлив, когда транжиришь свое жалование в порту?
Уэсли недовольно отмахнулся:
– Черт, нет! Что еще мне делать с деньгами? Послать их некому, кроме отца и одного из женатых братьев, а когда это сделано, денег все еще много – я и трачу их направо и налево. Я тогда не счастлив.
– Когда же ты счастлив?
– Никогда, пожалуй; есть вещи, от которых я получаю удовольствие, но они заканчиваются. Это я о жизни на бичу сейчас.
– Значит, ты счастлив в море?
– Видимо… По крайней мере, там я дома, я знаю свою работу и что я делаю. Я обученный матрос, видишь ли… но что касается счастья на море, не знаю точно. Черт возьми, да какое там счастье? – спросил Уэсли с насмешливой ноткой.
– Никакого? – предположил Билл.
– Да вот именно, чтоб меня прихлопнуло и размазало! – заявил Уэсли, улыбаясь и качая головой.
Билл заказал еще два пива.
– Мой старик – бармен в Бостоне, – признался Уэсли. – Тот еще лось.
– Мой старик был рабочим на верфи, – вставил Эверхарт, – но теперь он стар и слаб, ему шестьдесят два. Я помогаю ему и младшему брату деньгами, а моя замужняя сестра живет у меня со своим мужем-долдоном, готовит им и заботится [о] них. Пацан ходит в школу – неустрашимое хулиганье.
Уэсли слушал это, не комментируя.
– Я хочу все изменить; расправить крылья и проверить, готовы ли они к полету, – признался Билл. – Знаешь что?.. Хочу послужить в торговом флоте!
– А призывной статус у тебя какой? – спросил Уэсли.
– Только что зарегистрировался, если, конечно, повестка не пришла с утренней почтой, – размышлял Билл. – Но, черт возьми, мне нравится эта идея!
Уэсли поджег сигарету и поглядел на уголек, а Эверхарт погрузился в задумчивое молчание. Можно бы слегка подзаработать, старику скоро нужно грыжу вырезать. Что там сказал врач?.. семь месяцев? И малуй наверняка лет через пять или шесть захочет поступить в Колумбийский.
– Сколько денег можно заработать за рейс? – наконец спросил Билл.
Уэсли, набрав полный рот пива, подержал его немного, наслаждаясь вкусом.
– Ну, – ответил он, – по-разному. Простым матросом – несколько меньше. Рейс в Россию – сотни четыре баксов за пять или шесть месяцев, включая жалованье, морскую надбавку, портовую надбавку и сверхурочные. Но если по-быстрому, например, в Исландию, или каботажем в Техас, или в Южную Америку, за рейс выйдет меньше.
Что ж, два или три коротких рейса или один длинный явно принесут немало. Эверхарт зарабатывал 30 долларов в неделю в Колумбийском университете и платил аренду пополам с зятем, не бедствовал, но ему никогда не хватало денег, чтобы сделать сбережения или заложить основы будущей безопасности. Нередко удавалось зарабатывать немного сверх жалованья, репетируя студентов во время экзаменов. Но с 1936 года, когда он получил степень магистра по английскому и ему повезло занять место старшего преподавателя в университете, он понемногу катился по наклонной, транжиря все деньги, которые он оставлял себе, и проживая жизнь, полную разглагольствований в компании студентов, профессоров и людей вроде Джорджа Дэя; живя, короче говоря, обычной нью-йоркской жизнью. Он усердно учился и был блестящим студентом. Но беспокойство, которое назревало все эти говорливые годы, что он пробыл старшим преподавателем английской литературы, неясный порыв посреди довольно бесчувственного и самодовольного бытия, теперь настигли его взрывом осуждения. Что он делает со своей жизнью? Он никогда не был привязан к женщине, если не считать легкомысленных и случайных связей с несколькими девушками из близкого круга. Остальные в универе, понял он теперь с долей сожаления, стали правильными учеными, с самодовольным высокомерием молодых профессоров носили хорошую одежду, были женаты, снимали квартиры в кампусе или поблизости и нацелились на серьезную целеустремленную жизнь с перспективой карьерного роста и почетных степеней, с неподдельной любовью к женам и детям.