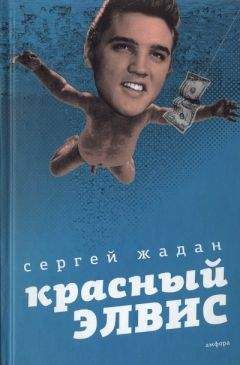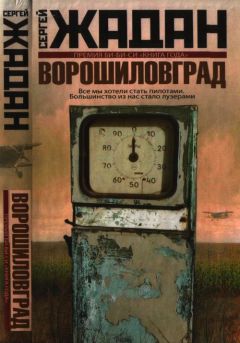Сергей Жадан - Anarchy in the ukr
Мои родители приятельствовали с семьей участкового врача, это был пожилой мужчина, серьезный и почтенный, дома у него стояло пианино, он позволял себе относиться к моим родителям с доброй снисходительностью, прощая им некоторые человеческие слабости, скажем отсутствие у нас дома пианино. Родители часто брали меня с собой, когда шли в гости к врачу, они заходили во двор, где под деревьями стоял большой стол, долгими летними вечерами сидели там и говорили о чем-то своем; о медицине, я это хорошо помню, не говорил никто, разговоры были громкими, вино было густым и красным, вечера были бесконечными, над столом горела мощная лампа, под которой летали мотыльки, вечерний свет странно рассеивался в воздухе — стоило отойти всего на пару шагов в сторону, от света, и ты проваливался в мягкие сумерки, словно в застоявшуюся озерную воду, прятался в ней, глядя оттуда на ярко освещенный стол, за которым сидели твои родители вместе с врачом, я убегал в дом, подходил к пианино, открывал крышку и рассматривал клавиши, я был немузыкальным ребенком, мой опыт музыкального образования ограничился рассматриванием клавиш, по крайней мере я знаю, что они бывают разные, то есть белые и черные, как минимум.
Когда я уже подрос и умел читать, а читать я научился рано и читать мне было особенно нечего, мой брат попал в больницу. У него было какое-то нагноение, и ему делали операцию. Родители ежедневно его проведывали, иногда брали меня с собой. Брат в больнице скучал, ему было неинтересно, родители приносили ему кучу всего вкусного и новые книжки. Пока они сидели возле него, я брал принесенные ему книжки, садился на соседнюю свободную кровать и быстро их прочитывал. Брат читать не любил, он любил технику.
Я хорошо помню нашего детского врача, она время от времени приходила в школу, чтобы делать нам прививки. Уроки срывались, все готовились к прививкам, каждый пытался как-то по-особому выебнуться в этих условиях, мол, пусть колют сколько хотят и куда хотят, мне все равно. Всем действительно было все равно, врач мне не нравилась, я ее откровенно презирал, хотя ко мне она относилась слишком хорошо, как я теперь себе понимаю. Позже, через несколько лет, ее сын, редкостный ублюдок, поссорится со своими друзьями, украдет у нее ключи от ее врачебного кабинета, залезет туда и сожрет кучу разных таблеток. Его откачают, хотя он этого и не просил. Еще однажды ее двоюродный брат тоже с кем-то поссорится и выпьет дихлофос. Этого даже не откачают, за ним приедет скорая, тело загрузят и увезут на вскрытие. Тогда я впервые пойму, почему не люблю врачей — рядом с ними обязательно находится смерть, где-то совсем рядом, так что лучше держаться от них подальше.
В детстве я мало болел, у меня тоже не было на это времени, я был слишком занят своими делами, своими отношениями с окружающим миром, мне просто жалко было терять драгоценное время на разные глупости. Но в какую-то из зим я все же сильно простыл и несколько суток валялся в постели с температурой. В какой-то момент — очевидно, его можно назвать критическим — я начал бредить. Бредил я впервые в жизни, возможно, поэтому хорошо это запомнил. Проваливаясь время от времени в сон и выпадая оттуда наружу, я вдруг увидел перед собой свой мир, как он мне тогда представлялся, картинка была яркая и четкая, никогда после этого я уже не видел жизнь так четко, в дальнейшем жизнь всегда расплывалась у меня перед глазами, а тогда я вдруг увидел все — мой мир состоял из ярко освещенных солнцем городов, светлых многоэтажных зданий, улиц, по которым только что проехались поливальные машины, теплого хлеба в магазинах, свежего молока и холодных овощей, мокрого песка на железнодорожных переездах, луж на грунтовых дорогах, по которым движутся грузовики; я видел города сверху, в них было много заводов и шахт, сортировочных станций с рыжими товарными вагонами и прохладных с утра контор, мои города объединяли шоссейки, на которых плавилась от солнца смола и по обе стороны которых росли влажные сосновые леса; дальше на юг шахт становилось все больше, жизнь была все громогласней, я видел своих друзей, которые выбегали с утра из домов и мчались в школу, видел футбольные поля, видел стаи голубей над футбольными полями, еще дальше на юг начиналось море, там было много песка и воды, солнце слепило мне глаза; за морем, совсем далеко, в солнечных лучах терялись горы, это были Балканы, я точно знал, что это Балканы, мой старик был когда-то в Югославии и привез мне оттуда почтовые открытки, я себе очень хорошо представлял эти горы, с неимоверным количеством цвета и солнца, за Балканами не было ничего, на этом мир заканчивался, этого было совершенно достаточно, я мог уместить в своем теле именно такое количество травы, листьев, черешен, плоских и горячих пшеничных полей, зеленых грузовиков, молчаливых механиков, белого кирпича и желтого лимонада; я отворачивался от гор и смотрел на восток, на востоке были поля, бесконечные поля, которые мы много раз проезжали с моим стариком, когда тот ехал куда-нибудь на несколько дней и брал меня с собой, поля освещались ровным солнечным светом, и как я ни пытался, но не мог увидеть, что же там дальше — за теми полями, должно же там что-то быть, но я ничего не видел, соответственно — там ничего не было, рядом стояли мои города, работали мои фабрики, мои друзья ждали меня, взрослые относились ко мне благосклонно и доброжелательно, незнакомые водители клаксонили мне, проезжая мимо, в море стояли корабли и плавали рыбы, они высовывались из волн, как пассажиры из окон автобуса, и смотрели на меня, будто говорили — что с тобой? что ты себе думаешь? разве можно болеть, когда у тебя есть такое море, когда у тебя есть мы?
И тогда я подумал — действительно, что это я себе думаю, как можно болеть, когда есть такие корабли и такие рыбы, когда у меня столько воздуха и столько деревьев, когда у меня есть мой старик, который меня обязательно еще куда-нибудь возьмет, когда у меня, в конце концов, есть мои Балканы, которых кроме меня никто не замечает в летнем предвечернем мареве. Очевидно, подумал я, такой мир стоит того, чтобы не умирать. Тем более, я никогда еще не был на море. Что я, в самом деле, себе думаю, подумал я и пришел в сознание. Пришел и на всякий случай остался, мне становилось лучше, я возвращался к жизни, жизнь возвращалась ко мне.
86-йСтадион. До пятого класса спортом я не интересовался. Спорт проходил мимо меня. Все мои друзья гоняли с утра до вечера резиновый мяч, кожаного у них, ясное дело, не было, постоянно требуя, чтобы я хотя бы встал на ворота, если нормально играть не хочу, но я всегда находил какую-нибудь причину и отказывался, или отказывался просто так — без причины. Очевидно, они считали меня мудаком, в большой степени так оно и было, но спортом я все равно не интересовался. Мне было насрать, что они все про меня думают, на самом деле мне и теперь насрать, что про меня думают, это уже, можно сказать, черта характера. Но все стало на свои места в 86-м, в июне 86-го, если быть точнее. Мы все включили свои телевизоры и увидели Марадону, старого шулера, который порвал на куски бундестим, который забивал мячи руками, который нюхал кокаин (ну, это я теперь знаю, что он его нюхал, а тогда я о чем-то подобном даже и не думал), который в самые эмоциональные моменты плакал и даже этого не стыдился. Марадона был настоящим крутым уебком, не любить которого и не подражать которому было просто невозможно. Я встал на ворота.
Одним из самых важных героев в моей жизни был мой Тренер. Он появился немного позже и совсем не случайно — городской спорткомитет решил его где-то трудоустроить и перебросил в нашу школу, учителем физкультуры. Кроме этого он должен был тренировать и взрослую команду, что состояла из наших старших друзей. Сам он был профессиональным футболистом и несколько лет играл то ли в первой, то ли в высшей лиге, теперь он выступал за команду нашего городка, это был полупрофессиональный клуб, сформированный из вот таких отставных аутсайдеров, большинство из них действительно играли на уровне если не первой, то по крайней мере второй лиги, но все они были кончеными лузерами, и наш местечковый клуб был их лебединой песней, отстойником для неудачников, что не мешало нам приходить на каждый домашний матч и болеть за нашего Тренера. Тренер раз от раза все больше пил и на поле лажал, но нам-то что с того, он был нашим Тренером, он нас тренировал, он собрал любительскую команду из наших старших друзей, и они громили все заводские команды городка. Без профессионального спорта мы могли обойтись, зато среди любителей мы были лучшими.
Уроками физкультуры Тренер не интересовался, его не впирало вести классные журналы, разрабатывать программы и составлять планы на четверть, на урок он приходил с мячом (кожаным, настоящим кожаным мячом!), кидал нам его, как кусок сырого мяса шавкам, и мы уже мутузили его по стоптанной площадке, разбивая окна первого этажа нашей школы, разрывая футболки друг другу и запуская его — этот мяч — в бесконечное солнечное небо восьмидесятых. Директор школы Тренера побаивалась и не трогала — он был кандидатом в мастера спорта, его любило районное начальство, поскольку он тянул, как мог, на себе главную команду города, кроме того, Тренер постоянно был поддатый и на субординацию особенно внимания не обращал, поэтому директорша каждый раз только сокрушенно вздыхала и звала учителя труда, чтобы он вставил стекло. У Тренера были свои представления об успешности и школьных планах, он выставлял нас против всех окрестных школ, мы выигрывали, после победы он приносил на занятия полный карман значков ГГО второй и третьей степени и раздавал нам вместо оценок. Мы были ебнутыми не меньше его и все эти значки действительно носили, не то чтобы они для нас много значили, просто это было вроде звездочки за сбитый самолет. Помню, в какой-то момент я носил на школьной форме около десяти значков ГТО. Потом я обломался и выбросил их. Вместе с формой, кстати.