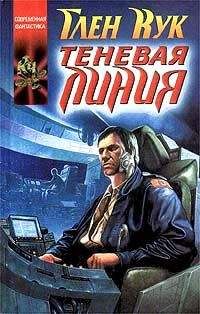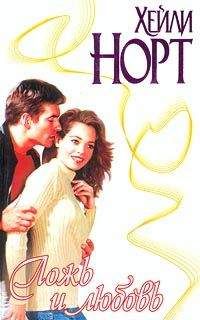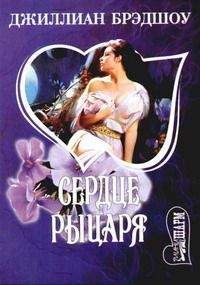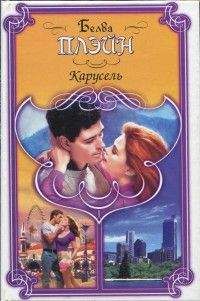Ян Кефелек - Осмос
— Папа? — неуверенно прошептал он, глядя в сторону густых зарослей у края дороги.
Тьма, заключившая его в свои объятия, нашептывала ему на ухо: «Великая новость ждет тебя, малыш! Видишь ли, она потеряла память, впала в детство, она знать не знает, кто ты такой… Великая новость: она ехала в метро и неправильно повела себя, чем спровоцировала нападение, и вот теперь она в коматозном состоянии, да, твоя мать недееспособна, мой мальчик, и мы свободны, нам не надо ни от кого скрываться… Великая новость: самолет, на котором она летела, чтобы повидать нас, рухнул в море, никто из летевших на нем не спасся, ну, конечно, летела-то она не к нам, а собиралась где-то трахаться черт знает с кем, с моими-то денежками, они пришлись ей очень кстати… Великая новость, малыш: мы с Лорой скоро поженимся, она ждет ребенка…»
Пьер бежал и бежал, чтобы не слышать ничего, кроме пульсирующей в ушах крови… Вместо того чтобы на развилке побежать по тропе, которая привела бы его к дому, он побежал прямо, словно вообще думал убежать из долины. Вдруг он почему-то вспомнил, что за день до того из реки около плотины выловили тело какого-то старика, вернее, не тело, а то, что от него осталось после того, как беднягу изрубили на мелкие кусочки турбины; скорее всего это был какой-то рыболов, которого, вероятно, преднамеренно столкнули в воду. Пьер остановился, согнулся пополам; он задыхался, ступни босых ног, израненные о щебенку, саднили. Он упал навзничь, сложил руки на груди. Он умирал от жажды. Чуть переведя дух, Пьер стащил рубашку и подложил себе под голову. Да, он вот так и пролежит здесь всю ночь, не смыкая глаз, не думая ни о чем… Когда его глаза привыкли к темноте, он увидел неподалеку трибуны. Вот оно что! Он оказался не на дороге, а посреди стадиона, на лужайке. По всей видимости, на площадке для игры в бейсбол. Раньше он никогда здесь не был. В Лумьоле никто не играл в бейсбол, в клубе был всего лишь один член: сам мэр, — так сказать, для того, чтобы подавать хороший пример.
Пьер опять улегся на траву и собирался уже было заснуть, когда ему показалось, что до него донесся шум мотора. Кого это еще принесло? Он пристально вгляделся в черную дыру единственного входа и бросился к трибунам, чтобы там спрятаться, но на балюстраде он наткнулся на железную защитную сетку, преградившую ему путь к отступлению. От всех пережитых за этот вечер передряг он чувствовал себя совершенно разбитым, сил на то, чтобы перелезть через сетку, у него не было, и он повернул назад. На другом конце стадиона вспыхнул яркий огонек: луч света бил из фары мотоцикла. Мотоцикл быстро приближался, поднимая пыль, и небольшое облачко плыло вверх, к звездам. Мотоцикл вилял на лужайке из стороны в сторону, выделывал петли и зигзаги, потом громко взвыл, когда седок дал полный газ; к реву мотора присоединились взрывы хохота и ритмичные звуки музыки. Мотоцикл резко затормозил у самых ног Пьера. В «седле» этой прекрасной белой, вернее, кремовой машины восседал какой-то ирреальный, словно пригрезившийся во сне Креон, за ним следом показались Антигона и двое одетых в черное бандюг, заделавшихся его телохранителями и прилипалами. Они выключили музыку. Свет фары очертил большой круг на сетке и на траве. Они окружили Пьера и рассматривали его с интересом и любопытством, как заразного больного или раненого. Креон был настолько пьян, что совсем не держался ни в седле, с которого он сполз, ни на ногах. Его белый костюм был расстегнут до пояса.
— Полиник мертв, — провозгласил он голосом, в котором слышались сожаление и сочувствие. — Это я приговорил его к смерти. Я — царь, корифей.
— Да, хорош же ваш царь, нечего сказать! Убирайтесь отсюда!
Креон, казалось, на мгновение протрезвел и задумался, его приспешники хранили молчание, а Антигона как-то странно вертелась на месте, подняв руки кверху, словно ее кусали какие-то насекомые, и она от них отбивалась.
— Невозможно, корифей. Ты тоже приговорен…
— Ну да, конечно, приятель. Пойди лучше проспись. Ты приговоришь меня завтра к чему тебе будет угодно, если успеешь…
— Нет, ты уже приговорен, и приговор должен быть приведен в исполнение сегодня вечером.
Креон как-то криво и глупо усмехнулся, сделал шаг вперед и упал на руки Пьеру, а затем вцепился в него так, словно хотел задушить его в своих объятиях, и принялся клясться в вечной любви и дружбе.
— Слушай, забери у меня этого пьянчугу, уведи этих пропойц от меня куда-нибудь подальше, — сказал Пьер Антигоне. — Терпеть не могу окосевших царей!
Он пытался заглянуть ей в глаза, но она делала вид, что очень увлечена своей новой ролью восточной танцовщицы.
— А ведь ты дрейфишь, — сказал один из телохранителей Креона. — Это видно.
— Это видно невооруженным глазом и это ощущается по запаху, — встрял второй. — Это от тебя так воняет?
— Да нет, не от меня, а от тебя! Так воняет мыло, которым ты моешься в надежде отбить свой мерзкий запах метека.
Креон нашел замечание Пьера ужасно смешным и захохотал. Он всегда, как истинный знаток, ценил юмор Пьера, он всегда хотел сидеть рядом с ним в бистро, потому что гордился дружбой с ним. Потом он сказал примирительным тоном:
— Ладно, корифей, поцелуй мои царские ноги, и ты прощен.
— Прекрати называть меня корифеем, дурак несчастный!
— Слушай, ты обманом поимел мою сестру, ты ее хорошенько трахнул, лишил невинности, у нее кровь идет, а ты еще выступаешь! Ну так получай! — И Креон легонько щелкнул пальцами, как хирург, требующий, чтобы ему подали нужный хирургический инструмент.
Все так же сладострастно изгибаясь и покачивая в такт шагам поднятыми вверх руками, Антигона направилась к мотоциклу и вернулась, размахивая как мажоретка на параде, но не жезлом, а бейсбольной битой, обтянутой бархатом. Склонившись в грациозном поклоне, она передала биту Креону, тот взвесил ее на руке, перебросил ее из одной руки в другую, словно примериваясь, как бы ее поудобнее держать. Вид у него был одновременно и глуповатый и угрожающий.
— Эй, слушай! Все же поостерегись, не наделай глупостей, — сказал Креону один из телохранителей, хватая его за запястье, как хватают за ошейник крупную сторожевую собаку или пытаются остановить уже занесенную для удара руку громилы, подкараулившего прохожего в темном закоулке.
— Я — царь, — грустно сказал Креон.
Он схватил биту двумя руками, положил себе на плечо, а потом медленно-медленно опустил ее, как палач опускает топор. Концом биты он задел лицо Пьера, коснулся его груди и живота, просчитав до трех.
— Да, сваливаем отсюда! — предложил второй телохранитель. — Чего нам тут делать! Плевать нам на все!
— Да, поехали! — сказала Антигона, усаживаясь на сиденье мотоцикла верхом.
— Да, сейчас… Сейчас поедем… — протянул Креон. — Спокуха!
Он стоял, опираясь на биту, потом вдруг резко повернулся на каблуках, занес биту и заорал прямо в лицо Пьеру, по-прежнему прижимавшемуся к защитной сетке:
— …но сначала я нанесу три удара, слышишь, корифей! Я отомщу тебе за свою сестру!
И Пьер услышал, как мир вокруг него взорвался и разлетелся вдребезги.
XV
На исходе дня, в преддверии сумерек, радуясь ясной погоде, в липах вовсю распелись дубоносы. Марк прислушался. Откуда-то доносился веселый смех, вероятно, это ребятишки возвращались с пляжа. Марк не мог больше выносить этой пытки одиночеством, не мог больше представлять себе Пьера то раздавленным под колесами авто, то зарезанным, то утонувшим, то разбившимся о скалы и лежащим на дне ущелья. Он уже по сто раз позвонил во все больницы в округе, а также и в морг, и теперь у него сдавали нервы. Всю ночь он пил кофе, чашку за чашкой, а днем беспрестанно пил воду, стакан за стаканом. Он сварил себе два яйца, но так к ним и не притронулся. Он бродил по дому, как неприкаянный, то садился ждать наверху, в комнате Пьера, то спускался вниз, на кухню, потом вышел в сад, даже сходил к Жоржу. Марк не находил себе места, и пожалуй, наверху, в комнате Пьера, за его столом, ему было не так худо, как везде. Он не хотел ни ложиться, ни закрывать глаза, чтобы не увидеть, как будет биться в конвульсиях Пьер, чей образ тотчас же возникал перед ним, стоит ему смежить веки. Он сидел совершенно обессиленный, на вращающейся табуретке, руки у него буквально висели между колен. Все, что он мог, это прислушиваться ко всем шорохам и следить за приотворенной дверью и открытым окном, где то сгущались, то исчезали какие-то тени, и вновь в свои права как ни в чем не бывало вступала ночь. Вторая ночь… вторая ночь без вестей о сыне… Ужасная ночь!
Сегодня утром, услышав рев мотора, Марк выскочил из дому и бросился как сумасшедший к калитке. Было еще совсем темно. Он не знал, на каком он свете, он ничего не соображал, и вопреки очевидности, он, как бы наблюдая за собой со стороны, понял, что ждет их обоих, мать и сына, Нелли и Пьера… Шум мотора то стихал, то вновь усиливался, поднимался к небесам, затем, словно срикошетив от луны, снова опускался обратно на землю, достигал его слуха. Этот долгий монотонный звук, долетавший до него сквозь толщу времен, был для Марка воплощением безумной надежды. Он все еще страдал, все еще мучился… Эта шлюха, эта стерва, эта дрянь уходила из дому каждый вечер, и если он, к несчастью, не мог заснуть и не спал, когда она возвращалась, то она обвиняла его в том, что он за ней следит, нет, она употребляла другое слово — она говорила «шпионит». А он страстно хотел ее, томился любовной бессонницей, но ведь это совершенно нормально, у всех мужчин такое случается. Ну почему, почему, Нелли, я не могу обладать твоим маленьким телом? Почему именно я не могу? А она говорила: «Нет». Он поднимался к ней по лестнице и канючил: «Как чудесно пахнет твое маленькое тело, Нелли, ты отдала его кому-нибудь сегодня ночью? Ты скажи либо да, либо нет, но ты ответь, ведь я же человек, а не собака». А она молча валилась на постель, как была, одетая. «Ну скажи же хотя бы, что ты сегодня кому-то отдавалась, мне станет легче, у меня исчезнет желание, я засну. Ну, что ты хочешь, меня интересует все, что касается тебя». Ее маленькое тело… Ему осточертело представлять себе его в объятиях других мужчин… Но если бы жизнь началась сначала, он вновь стал бы вдыхать ее запах, и делал бы это до тех пор, пока бы она не подохла. Что было дурного в том, что он хотел прижать ее к себе, раз он так долго этого ждал? Коль скоро так случилось, что он всякий раз бросал свое сердце на чашу весов? Она же не бросила на другую чашу ничего, ни единого грамма жалости. Она хотела только одного: прикарманить его деньги!