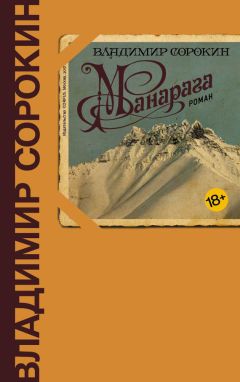Роман - Сорокин Владимир Георгиевич
– Здравствуй. Сейчас, чай, выйдут, – усмехнулась кухарка, отводя глаза от белозубой улыбки Акима.
Она была в чёрном сарафане с серым передником и в лаптях.
– Никак и ты собралась?
– А чаво ж! Покелича грибы полезли, надобно ухватить.
Она стала поправлять свой синий в мелкую белую крапинку платок.
– Ну и ладно. Чего дома сидеть, – заключил Аким и, снеся корзины к телеге, принялся пристраивать их.
Аксинья посторонилась и пропустила на крыльцо Антона Петровича, одетого во всё ту же крестьянскую одежду, с соломенной шляпой на голове, с корзиной в руках.
– Так, так! – Он быстро спустился по ступеням. – Пойду искать по свету, где оскорблённому есть чувству уголок! Карета подана! Отлично! Не развалится?
– Помилуй бог, – качнул головой Аким, – новёхонькая, только что купил.
– Да, да, да… совсем новая телега. Я с крылечка не заметил, – согласился Антон Петрович, и, изогнувшись, выпятив вперёд живот, посмотрел на небо. – Что ж, природа дарит нам чудненький денёк. Лида! Поспешай, моя радость, не то боровики разбегутся!
Но вместо Лидии Константиновны на крыльце появился Роман. В отличие от дяди он был одет слишком по-городскому – серая шляпа, замшевая куртка, кремовые брюки, заправленные в хромовые сапоги.
– Доброе всем утро! – крикнул он и легко спрыгнул с крыльца на землю.
– Экий вы красавец, Роман свет Алексеевич! – засмеялся дядя, бросая корзину в телегу и обнимая племянника. – Не боишься в лес в таком наряде? Я вон в лаптях, по-русски! А?
Антон Петрович слегка присел и, захлопав увесистыми ладонями по коленям, запел:
Аким и Аксинья смеялись, качая головами.
– Ну вот, Антоша, с утра да за пляску! – послышался мягкий голос тётушки.
Она стояла на крыльце – стройная, в длинном глухом зелёном платье с кружевными манжетами и воротником, с маленькой шляпкой на голове и с корзиной в руке.
– Лидочка, свет мой невечерний! – загремел Антон Петрович, воздевая кверху руки. – Поедем вместе к Берендею в гости!
– Поедемте, поедемте! – весело ответила тётушка, спускаясь вниз. – Аксюша, квас положила?
– Положила, а как ж без него? – в своей манере, вопросом на вопрос, ответила Аксинья.
– Садитесь сюды, Лидья Костатевна! – суетился Аким, расправляя своими смуглыми руками сено в телеге.
– Спасибо, Акимушка.
Сразу шесть мужских рук подхватили её, и она оказалась в середине телеги.
– Ну совсем как принцесса на горошине! – засмеялась тётушка.
– Не принцесса, а королева, Мария-Антуанетта, Жанна д’Арк, Елизавета Английская! – гремел Антон Петрович, целуя тётушкины руки.
– А мне кажется, тётушка, вы сейчас напоминаете боярыню Морозову, – проговорил Роман, подсаживаясь на край телеги.
Воспенниковы засмеялись. Антон Петрович взгромоздился на телегу и закричал:
– Аллюр два креста! Марш, марш!
Аксинья села сзади, Аким спереди, разбирая вожжи.
– Поехали! – крикнула тётушка, и лошадь, не ожидая удара вожжой по серой спине, взяла с места.
– Куды править? – спросил Аким, когда проехали липы.
– В Мамину, наверно, Антоша? – откликнулась тётушка.
– Нет, ma cherie. В Маминой теперь весь Крутой Яр днюет и ночует. Там нам делать нечего.
– Так куда же? – Тётушка обеими руками держалась за массивное плечо Антона Петровича.
– Нешто в Выруб? – пробормотал Аким.
– Нет, друзья мои! Дальше! Путём нехоженым к святому Граалю! – пропел Антон Петрович и серьёзно добавил: – На Усохи! Через бор, через Желудёвую падь. Вот каков манёвр!
– Ох, далече-то как! – тихо засмеялась Аксинья.
– Круто! – весело мотнул головой Аким. – Часа за два доедем.
– За два?! – грозно воскликнул дядя. – Это ты, солдат отечества, лихой наездник, говоришь мне! А ну, гони свою клячу, чтоб через час там были! Гони!
– Антоша, да что ты, право… – начала успокаивающе Лидия Константиновна, но Аким уже стал нахлёстывать лошадь вожжами, и телега набрала ход.
– Другое дело! – закричал Антон Петрович. – Так держать! Зюйд-зюйд-вест, паруса по ветру!
Подпрыгивая на ухабах, телега неслась к сосновому бору.
Солнце взошло над дальним лесом и косыми лучами заливало засеянные рожью, овсом и гречихой поля. Ехать было свежо и не пыльно – ливень так промочил землю, что сейчас, четыре дня спустя, земля была влажной, а во впадинах дороги ещё стояла вода. По пути телега обогнала несколько крестьян, по-видимому идущих в лес драть лыко. Они снимали шапки и, желая здравствовать, провожали телегу долгими взглядами, загораживаясь руками от низкого, набирающего силу солнца.
Когда въехали в сосновый бор, лошадь пошла шагом, Антон Петрович поворчал, но, смирившись под давлением супруги, решил рассказать одну из своих известных всем историй, которыми он обычно коротал дорожное время. Истории эти были совершенно замечательные по своей простоте, ясности и тому особенному русскому юмору, суть которого, по мнению Романа, заключалась не в содержании, а в форме, то есть в искусстве рассказать в лицах на вид не очень-то и смешной случай. Антон Петрович владел этим искусством в совершенстве и поэтому рассказывал свои истории по многу раз. Их знали и любили все родные и знакомые, кухарки и конюхи, простые деревенские мужики и бабы. Действовали эти монологи безотказно, как бельгийские ружья: стреляя в слушателей зарядом задора и удали, они всегда попадали в цель, вызывая безудержный смех, хотя суть истории и даже манера исполнения была слышана уже десятки раз. И сейчас, когда Антон Петрович, вздохнув и как-то подобравшись, начал своим поставленным актёрским голосом:
– М-да. Помню, лет эдак двадцать назад на Воздвижение отправился я в этот бор пострелять рябчиков… – все повернулись к нему, затихнув в радостном ожидании, стараясь не улыбаться и делая серьёзные лица.
– Отправился, друзья мои, не слишком рано, эдак часу в девятом. Походил, поднял пару, но в то утро местная наша Диана благосклонна ко мне не была. Ну а у меня правило строгое: коли по паре подряд промазал – поворачиваюсь и иду восвояси. Так тогда и сделал. Иду, ружьё за плечом, настроение эдакое сатирическое. А кругом осень – сосны скрипят, трава пожелтела, небо хмуро. В общем – унылая пора, очей очарованье… Так вот. Иду и возле нашего камня вижу коляску, запряжённую парой. В коляске мужик почтенного возраста. Но не наш. И сразу я понял, что ждёт он свата – то бишь отца жениха, а сам он – отец невесты. А раньше в наших палестинах у селян был такой обычай – после того как сваху засылали к невесте и родители давали согласье, договаривались “бить по рукам”, то есть сваты встречались на Воздвиженье возле этого камня, били по рукам, распивали бутылку и разъезжались, чтобы в воскресенье играть свадьбу. Я подхожу, он шапку снял, поклонился. “Кого ждёшь?”, – говорю. “А, – говорит, – Степана Кузнеца”. – “А сам откуда?” – “Из Мокрого”, – говорит. “Ну что, – говорю, – согласны породниться?” – “Стало быть, – говорит, – согласны”. А сам, вижу, нервничает. Я спросил: “А что ты так весь дёргаешься, или боишься чего?” – “Да, – говорит, – хоть сваха-то и говорила про них ладно, а сам-то не видал”. Поэтому, значит, и нервничает. Ну, я его успокоил, сказал, что семья справная, люди работящие, богобоязненные, всё у них на своём месте. Только, говорю, сам-то Кузнец на ухо туговат. Так что ты уж говори с ним как можно громче. А то он, когда тихо разговаривают, не слышит и обижается. Ну, он меня поблагодарил, поклонился. Я пошёл. Миновал воон те три сосны, они тогда поменьше были, и прямо на этом месте встречаю Кузнеца. Гонит он свою лошадку, что твой Ганнибал, не жалея. Но меня увидел – остановился, шапку снял. Желаем, говорит, здравствовать. А сам весь так и сияет. В новом армяке, в поддёвке в красной плисовой, сапоги блестят. Здравствуй, говорю, Степан. Видел я твоего свата только что. Ждёт он тебя возле камня. Он так весь и задрожал, глаза блестят. Сват-то – мужик богатый, сразу видно. Начал меня расспрашивать. Я ему всё пересказал – и про коляску, и про лошадей, про дуги расписные. Но, говорю, Степан, есть одно обстоятельство. Сват твой – мужик справный, но только на ухо туговат. Так что ты ему говори погромче. Тогда и поладите. Кузнец шапку снял, поблагодарил меня и ну настёгивать. А я, неудачный охотник, встал вот так. И стал слушать…