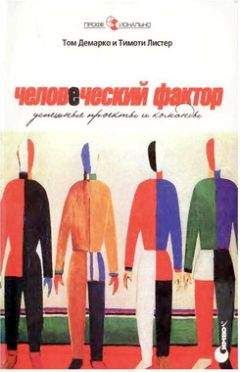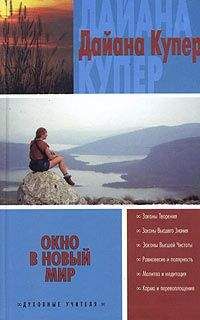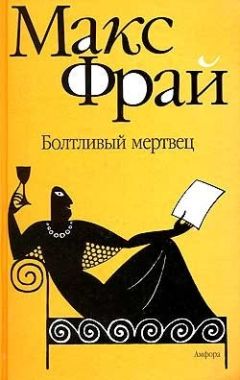Роберт Ирвин - Утонченный мертвец (Exquisite Corpse)
Через пару недель после выписки из больницы мне пришла повестка из военкомата. Решение призывной комиссии было известно заранее, и все заняло бы не более десяти минут, если бы члены комиссии не привязались к тому, что у меня нет фамилии. У них не укладывалось в голове, как такое может быть, и мы обсуждали этот вопрос, наверное, часа четыре. Однако в итоге все получилось именно так, как и должно было быть: меня признали полностью негодным к военной службе. Но если мне не суждено стать солдатом, то кем же я стану?
Понятно, что я не мог заниматься тем же, чем занимался до войны: писать сюрреалистические картины и иллюстрировать книги. Тем более что в городе стало почти невозможно купить необходимые материалы. Хоть какие-то кисти остались лишь в лавках скобяных товаров. Мой персональный меценат, Хорхе Аргуэльес, большой поклонник моих работ, жил теперь на другом конце света, и Эдвард Джеймс – тоже. Почти все лондонские галереи закрылись, но если даже бы они работали, все равно люди больше не покупали картин. Это было бы непатриотично. Покупать следовало лишь военные облигации, или как там оно называлось. Что касается книг, их теперь издавали значительно меньше, а те издания, которые еще выходили, оформлялись по экономическим стандартам военного времени.
В конце концов, я устроился на работу благодаря случайной встрече в пабе. Война – великое время для случайных встреч. Как будто чья-то невидимая рука вдруг подбросила в воздух все карты, лежавшие на столе, и они в первый раз перетасовались по-настоящему. Все постоянно куда-то перемещались – военнослужащие проездом из одного места в другое, курьеры, беженцы, эвакуированные, – и люди встречались друг с другом при совершенно неожиданных обстоятельствах. Я жил в непрестанном, томительном ожидании встречи с Кэролайн – скажем, на полевой кухне для беженцев, или в затемненном вагоне метро, или в бомбоубежище. В военное время подобные встречи обретают возможность осуществления, и вполне вероятно, что я несколько раз разминулся с Кэролайн всего лишь на пару секунд, когда она только что завернула за угол или села в автобус, а я был буквально в пяти шагах, но как раз в эту секунду почему-то смотрел не туда. Разумеется, я желал этой встречи всем своим истомившимся существом, но в то же время мне было страшно, поскольку я вышел из клиники импотентом. Может быть, это были последствия шока от оргии, когда секс и смерть неразрывно слились воедино в моем подсознании, или, может быть, на меня так повлияли сильные успокоительные препараты вкупе с электрошоковой терапией. Не знаю. Знаю только, что у других все было наоборот. Волнения военного времени, постоянное нервное возбуждение, ощущение полной неопределенности, когда ты не знаешь, где окажешься завтра и будешь ли ты еще жив в этом завтра, все это подняло эротическую температуру, и во время вечерних прогулок по городу мне нередко случалось набредать на влюбленные пары, которые лихорадочно совокуплялись на развалинах разрушенных бомбами зданий. Я отрешенно разглядывал их и шел дальше – я стал бесполым, и все проявления плотской любви теперь вызывали во мне интерес лишь научный.
Я не нашел Кэролайн, но зато нашел работу. В одном пабе на Шарлотт-стрит я встретил Роланда Пенроуза, и он устроил меня к одному своему приятелю, кинорежиссеру. Меня взяли на студию рисовать интерьеры -для декораций, и вот тут моя внешность сослужила мне добрую службу. Они искали актера на роль злобного офицера СС, и при моих светлых волосах и хищно-точеном профиле я был самой что ни на есть подходящей кандидатурой. «Тьму над Люблином», фильм про немецкую оккупацию Польши и польское сопротивление, снимали на студии «Ealing Studios». На съемочных площадках толпились актеры и консультанты: поляки и евреи из Восточной Европы. Фильмы очень похожи на сны – в случае в «Тьмой над Люблином» это был страшный сон, – и, как ни странно, мне было приятно играть воплощение кошмара. Режиссер тоже остался доволен: ему нравилось, как я умею выпучивать глаза и заставлять их гореть совершенно безумным огнем.
Репетиции и съемки длились всего полтора месяца, и на этом моя карьера киноактера благополучно закончилась. Однако как раз под конец съемок я встретил Пола Нэша (тоже случайно и тоже в пабе), и он вспомнил меня по предвоенным выставкам. Нэш познакомил меня с Кеннетом Кларком, а Кларк, в свою очередь, представил Комиссии военных художников. Таким образом, я вступил в группу, в которую уже входили Грэм Сатерленд, Генри Мур и Эдвард Ардиццоне. Мы вели художественно-изобразительную летопись войны. За эту работу я получал фунт стерлингов в день за каждый день, проведенный «на выезде», плюс к тому КВХ оплачивала мне проезд туда и обратно по железной дороге в вагоне третьего класса и выдавала небольшое денежное вознаграждение за каждую законченную картину, причем сумма вознаграждения оговаривалась заранее в зависимости от размера холста.
Начало моей работы в КВХ совпало с началом лондонского блица в 1940-ом, и я, таким образом, обрел свою миссию художника. Я рисовал разбомбленные здания, пожарища и огненные бури и представлял себя наследником Пиранези* и Джона Мартина**, прозванного Безумным. Все мои сюрреалистические изыски были отложены до лучших времен. Лондонский блиц создавал свои собственные сюрреалистические эффекты – белая лошадь, мечущаяся в огне на горящем мясном рынке, ее испуганные, обезумевшие глаза, рот, как будто разорванный страшной, застывшей улыбкой; маленькая девочка в голубом платьице, которая прыгает через скакалку в клубах черного дыма; странные искривления пространства, фасады зданий, вздутые нарывами пузырящейся краски и похожие на зловещие, мрачные декорации «Кабинета доктора Калигари». Куда ни глянь, везде – лестницы, уводящие в никуда, одинокие ванны, как будто подвешенные в дымном воздухе, водопады из раскрошенных кирпичей, льющиеся из зияющих дверных проемов, разбросанные предметы в самых причудливых сочетаниях, подтверждающих эстетический принцип Лотреамона, определившего прекрасное как «неожиданную встречу на операционном столе швейной машинки и зонтика». Помню, как горело одно огромное офисное здание. Длинные языки пламени рвались из всех окон, словно демоны, в панике убегающие из заколдованного дворца, освободившегося от чар. Я не боялся немецких налетов: мне почему-то казалось, что наш подлинный враг -огонь, а вода, таким образом, союзник. Иногда я задумывался о том, что, быть может, Великобритания вступила в войну не на той стороне, и что нам стоило бы заключить союз с великолепным ревущим огнем, а не с занудной хлюпающей водой.
Как сотруднику КВХ мне надо было добираться до разрушенных зданий, пока те еще полыхали и осыпались – разумеется, по возможности, – но в любом случае, до того, как туда же прибудут бригады спасателей и команды подрывников. Поскольку я относился к работе серьезно, я писал прямо на месте, при свете пожарищ и свете луны, под звон бьющегося стекла -худо-бедно прикрывая мольберт от оседающей пыли и сажи. Разумеется, уже после войны, меня часто спрашивали, что я делал в военное время, и я отвечал, что работал военным художником, причем я сам хорошо понимаю, что это звучало совсем не геройски. Людям, наверное, представлялся этакий изнеженный бледный юноша, который сосредоточенно хмурится над палитрой, смешивая краски, чтобы добиться нужного бежевого оттенка для изображения парадной формы какого-нибудь генерала. На самом деле, моя работа была по-настоящему рискованной. Бомбы, летящие с неба, невзорвавшиеся бомбы, дома, которые могут обрушиться в любую секунду – каждый ночной выход в город мог оказаться для меня последним. И это была не единственная опасность. Ист-Энд больше всего пострадал от бомбежек, и когда я работал там, мне приходилось прятаться от людей. Если бы местные жители, чьи дома были разрушены и чьи родные и близкие, вероятно, погибли под обломками обвалившихся зданий, застали меня за работой, они бы меня разорвали в клочья, голыми руками. Даже в Уэст-Энде мне несколько раз угрожали кровавой расправой.
* Пиранези Джованни Баттиста (1720-1778) – итальянский гравер и архитектор. Создавал «архитектурные фантазии», поражающие сверхчеловеческой грандиозностью пространственных решений и драматическими светотеневыми контрастами.
** Джон Мартин (1789-1854) – британский художник-романтик и гравёр; прославился изображением сцен катастроф. Его полотна заполнены крошечными фигурками среди грандиозных архитектурных сооружений.
На самом деле, я могу понять этих людей: мне и самом было странно стоять за мольбертом посреди горящих руин, вдыхать пронзительно-едкий дым, смешанный с запахом обугленной плоти, и как ни в чем ни бывало зарисовывать руки и головы, торчавшие из кирпичного крошева, в то время как люди вокруг суетились, пытались разгребать завалы, тащили пожарные шланги и передавали друг другу по длинной цепочке ведра с водой. С тем же успехом я мог оставаться в клинике: весь мир превратился в большой сумасшедший дом. Очень быстро все жители Лондона научились бояться безоблачных ясных ночей и полной луны – «Бомбежной луны», как ее тогда называли, – все, кроме меня. Теперь я спал днем, а в шесть часов вечера, с первой сиреной воздушной тревоги, брал мольберт и отправлялся на улицы города в предвкушении новых апокалипсических видений.