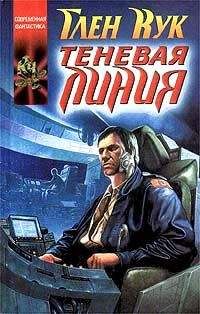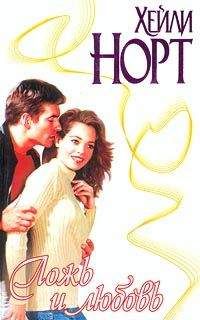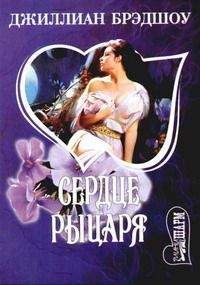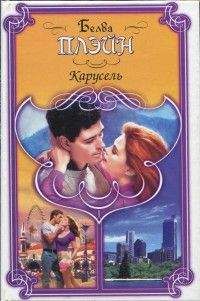Ян Кефелек - Осмос
Марк «организовал» их отъезд из Лумьоля как настоящее бегство. Он понимал, что его испытания еще не закончились, но когда ему удалось достичь хотя бы поставленной промежуточной цели по их преодолению, он был уже совсем другим человеком… Да, другим… А вообще, каким человеком он был прежде?
Три недели спустя после их ссоры и потасовки на краю ущелья отец и сын, вроде бы примирившиеся друг с другом, возвращались домой из кино.
— Тебе понравилось?
— Да, гениально! Тибет — это просто потрясно! Какие красивые пейзажи! Какая странная завораживающая музыка!
Пьер изливал свой восторг, но в то же время ощущал боль в нижней челюсти, которую тогда так сильно стискивала рука Марка, да и затылок у него задеревенел, как будто бы вторая рука все еще давила на него… Марк же по-отечески похлопывал его при ходьбе по плечу.
— Если бы тебе предоставили право выбора, где бы ты предпочел поселиться, малыш?
— В Йемене.
— Почему?
— Мне нравится название. Красивое… как и Испания…
— А Тибет? Ты не хотел бы там жить? Звучит тоже красиво!
— Да, мне тоже очень нравится.
— А как тебе понравится Шатийон-су-Банё?
— Я не знаю, где это…
Разговор продолжался уже в другом, конкретном русле. «Да, мне бы это пришлось по вкусу», — со вздохом отвечал Пьер на вопросы Марка, который уже напрямую, без обиняков заговорил о серьезных переменах в их жизни, суливших им большой успех, а именно о переезде в другой город, в результате чего они избавятся и от Лумьоля, и от лумьольцев, в чем они оба давно нуждаются, и очень нуждаются. Они оба принялись потешаться над лумьольцами, известными домоседами, никогда никуда не выезжавшими из своего крохотного городка, гордившимися своим невежеством и ставившими себе в заслугу то, что они ничегошеньки не знают о мире и ничего не видели и ничего не слышали ни о таком редчайшем явлении, как зеленый луч, ни о припае, то есть о так называемых паковых льдах в Арктике и Антарктике, ни о каньонах, ни о ламах, живущих на склонах Анд, ни о далай-ламе, проживающем в Тибете.
— Да и откуда им знать! Ведь тибетцы не торопятся толпами прибывать в Лумьоль, так что понять-то их можно…
Вдруг Марк захотел есть, и они остановились у «Галеота», маленького передвижного ресторанчика на окраине города. Фиолетовые огоньки рекламной вывески на крыше то зажигались, то гасли. Когда они зажигались, то образовывали контур парусника, шедшего по морским волнам под надутыми парусами. Там подавали то, что на современный лад именуется «фаст-фудом»: блюда быстрого приготовления, которые можно так же быстро и съесть. Содержала это заведение одна из дочек старьевщиков. Около грузовичка стояли два белых пластмассовых столика под большим зонтиком с пышными оборками, трепетавшими на ветру; вероятно, именно эти финтифлюшки и привлекали внимание прохожих и превращали этих прохожих в посетителей.
Марк с Пьером уселись за столик. Было тепло, из радиоприемника доносились звуки какой-то песенки. На столик и на их лица ложились светло-сиреневые блики от неоновой рекламы. Сейчас они были единственными клиентами. Удобно развалившись в кресле, Марк вдруг улыбнулся своей особенной вкрадчивой и обольстительной улыбкой; он достаточно хорошо изучил Пьера, чтобы знать, что эта улыбка повергала парня в трепет и заставляла его сердце биться быстрее.
— Как ты думаешь, мы могли бы взять ее с собой?
Пьер стиснул зубы и повернулся, чтобы взглянуть на то, что в этом заведении именовалось стойкой и представляло собой грязную, замызганную доску, по краям которой с двух сторон стояли бутылочки с кетчупом, а посредине надрывался транзисторный приемничек с устремленной вверх антенной; за стойкой суетилась хозяйка «ресторана».
— Ну так что, мы могли бы взять твою мать?
Этими словами он был сыт по горло, его от них тошнило! Пьер едва не выскочил из-за стола и чуть не бросился через дорогу, чтобы его вырвало в кустах, а не прямо у забегаловки, но все же совладал с собой, проглотив тягучий комок.
— По твоему мнению, малыш, как бы она отреагировала, если бы мы предложили ей поехать с нами?
— Ха… Если бы она хоть как-то отреагировала, то она отреагировала бы в первый раз, — процедил Пьер сквозь зубы злым скрежещущим голосом, как будто кто-то царапал камнем по стеклу.
Он тотчас же пожалел, что открыл рот, что показал, что воспринял эту блажь всерьез. Прежде его мать представляла собой некую неприятность; ее имя напоминало о семейной беде, о катастрофе, они соблюдали неписаный договор не слишком часто упоминать его, а когда все же упоминали, Пьер всякий раз чувствовал себя не в своей тарелке, он ощущал какую-то тяжесть в желудке; и вообще-то это случалось только тогда, когда на столе появлялось спиртное; само собой, как бы подразумевалось, что речь может идти только о разнесчастной шлюхе, против которой не стоит ополчаться вдвоем. Они по очереди защищали ее и по очереди нападали на нее, они менялись ролями, чтобы получше извалять ее в грязи… но ей-то что было за дело, она ведь не возвращалась! Она не хотела опомниться! На протяжении нескольких лет и речи не было о том, чтобы с ней увидеться, о ней почти не говорили, она уже была чем-то вроде вышедшей из моды, устаревшей темы разговора, старой шутки, утратившей всю свою соль. И вот на тебе! Марк опять о ней вспомнил после этой истории со злосчастным сочинением! Но теперь речь шла о том, что с головы Нелли не должен был упасть ни один волос! Ее нельзя ни ругать, ни проклинать! Можно было подумать, что таким странным способом Марк искал возможность отомстить за себя, выставляя напоказ эту женщину и ставя ее между собой и сыном, причем обрядив ее в белые одежды и представив бедной разнесчастной девушкой, у которой вскоре еще и прощенья придется просить… Уразуметь все это было трудно… По его словам выходило, что он опять бывал у нее, что «встречи их проходили на новой основе», разумеется; он действительно все чаще и чаще куда-то уезжал, разодетый в пух и прах. Для него опять «началась старая песня», и он разрывался между старой полузабытой любовью и отцовским долгом.
— Ну так что, мы возьмем ее с собой?
— А я-то думал, что мы переезжаем как раз для того, чтобы она перестала нас изводить, раз и навсегда.
Казалось, Марк смутился и пребывал в затруднении.
— Знаешь, она так переменилась. Ей нужно сменить обстановку, как и нам.
Пьер ничего не сказал. Он сгорал от стыда. Какая пытка! Он смотрел на отца, смотрел, как тот медленно, чинно крутил пластмассовую вилку, наматывая на нее лапшу, которая в свете неоновых ламп была какого-то не то голубоватого, не то сиреневого цвета. Ну почему отец несет эту чушь? Нет, Пьер ведь не был уж совсем идиотом! Он обратился с призывом о помощи к пользователям Интернета; таким образом он хотел найти свою мать… Он знал, что она родилась в Гавре, что она там выросла, училась, встретила его отца, потом родила в Лумьоле его, Пьера, а потом… потом исчезла, словно испарилась. Если бы она жила в Париже или где-то в другом месте, он бы об этом непременно узнал. Нашлись бы тысячи и тысячи свидетелей, которые завалили бы Пьера через Интернет сведениями о ней, сообщая все новые и новые подробности. Если только она не изменила имя и фамилию… Да, допустим, она где-то живет, но почему она никогда не звонит домой? На такие вопросы Марк обычно отвечал: «Она боится попасть на тебя. Ты можешь все испортить!» Возможно… Пьер теперь ни в чем не был уверен. И вообще, кто была та женщина, которую он звал мамой, когда был маленьким?
— Ты ей не доверяешь и опасаешься ее, — продолжал гнуть свою линию Марк. — Ну что же, быть может, в чем-то ты и прав. Да, у нее есть свой интерес, она хочет меня охмурить и удержать при себе, что правда, то правда, я ведь плачу за ее жилье, оплачиваю счета и непредвиденные расходы.
Поставив локти на стол, Марк говорил медленно, лениво, растягивая слова, говорил каким-то тусклым, невыразительным голосом.
— Вы скоро заведете еще одного ребенка?
— Ну, мы до этого еще не дошли, малыш, — улыбнулся Марк, показывая в улыбке свои ослепительно-белые зубы.
Пьер взял на десерт какой-то мусс, взял только потому, что его отец взял мусс, а затем он точно так же вслед за отцом решил выпить и кофе (хотя что за кофе можно было выпить в этой забегаловке… наверное, кофейник с этой бурдой томился на плите с самого утра). Хозяйка заведения подала счет.
— Ну как, идем?
— Ты мне до сих пор ничего не ответил на вопрос, касающийся твоей матери.
В глазах у Пьера потемнело. «Он что, сумасшедший? Или он меня считает сумасшедшим? Что я должен ему отвечать?» — думал Пьер. Чем больше они говорили, тем менее реальной она казалась. Из шкафа доставали старую куклу, с нее стряхивали пыль, ее вытирали, ее одевали в новое платье, ей делали новую прическу, ее заставляли есть, ее укладывали спать, ему говорили, что она больна и что она не должна двигаться, потом ему говорили, что она лжет, ее исцеляли, ее забывали в темном углу на несколько месяцев, ее ломали, затем ее снова чинили, эту милую Нелли, эту злую и противную Нелли, а потом ему говорили: «Иди, посмотри на нее и скажи, что с ней не так». В День Матерей ей, как ему говорили, отправляли большой букет цветов «от нас обоих, малыш, я позволил себе расписаться за тебя», а потом его уверяли в том, что она непременно им ответит, что она всегда любила белые гвоздики, что она их непременно получит в целости и сохранности, несмотря на перевозку, и что она пошлет им обоим в благодарность множество воздушных поцелуев.