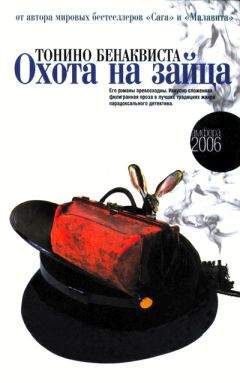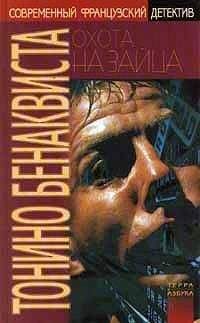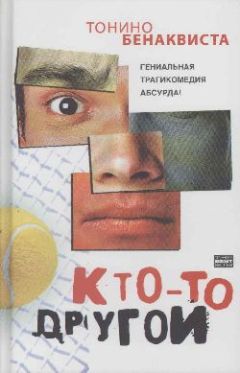Тонино Бенаквиста - Укусы рассвета
Этьен подхватил болезнь гораздо раньше всех нас.
— А эта курица с шафраном вполне ничего.
— Никакая это не курица. И никакой не шафран.
Я отдаю соседу свой фруктовый салат и закуриваю «Lucky Strike», купленные в duty-free. Убогий вид салона развлекает меня. Я подумал, что странная оранжево-розовая обивка вокруг иллюминаторов похожа на бумажные обои, и машинально ковырнул ее ногтем. Это и оказались бумажные обои.
Теперь я понимал, откуда у Этьена блокнот с сотнями адресов, талант давать взятки и лихорадочный интерес к поискам вампира в Париже. Это напомнило мне отрывок из мемуаров Бомона, где он описывает свое желание вновь окунуться в бизнес спустя долгие годы, несмотря на гору трупов, оставшихся на этом пути, несмотря на тот факт, что все давно изменилось. И я подумал: интересно, как я поведу себя, если через двадцать лет случайно окажусь у дверей, за которыми проходит какая-нибудь презентация или прием? Удастся ли мне подавить в себе застарелый рефлекс халявщика или я не смогу ему противиться?
Я, всегда так нетерпеливо ожидавший прихода ночи, впервые не угадал ее наступления. Наш дряхлый самолет вдруг врезался в темноту, и мне даже понравилось это странное ощущение физического проникновения в ночь, между двумя снами, подкрепленное уверенностью, что через минуту снова выглянет солнце.
— Это промежуточная посадка в Дубае, но посмотреть вы ничего не успеете.
— Мы выйдем?
— Ненадолго. Оставьте здесь вашу куртку, хватит и майки.
Не успел я спуститься по трапу, как на меня навалилась адская, совершенно неописуемая жара; сперва я решил, что ее гонит в нашу сторону работающий двигатель. Следом за другими пассажирами я кинулся к автобусу с кондиционером, по стеклам которого стекали капли конденсата. Пекло и холод, каких я больше никогда не встречу. В транзитном зале температура была более сносной; я уселся рядом с витриной местных промыслов, пытаясь представить себе несчастных туземцев, обреченных всю жизнь переносить такой климат. Мне пришли на память совсем еще недавние образы: поздние прохладные вечера, когда мы укрывались в клубе и инстинктивно тянули руки к танцполу, чтобы согреть их, а миг спустя рюмка ледяной водки, которой освежают взмокший лоб, пальто — вечно подмышкой, чтобы не платить в гардеробе, потом закрытие, улица, дождь, метро, битком набитое с самого утра, и последняя сигарета перед сауной на площади Италии или же три подушки с диван-кровати, на которые укладывает нас гостеприимный приятель, прося только не злоупотреблять радиатором. До чего же странно вспоминать все это, когда задыхаешься от жары посреди пустыни.
Через два часа я возвращаюсь на свое место и пристегиваю ремень.
— Где будет следующая посадка?
— В Дакке. Там уже рассветет.
— Ну, значит, хоть полюбуемся пейзажем.
— И не надейтесь! Я много раз пытался, но так его и не нашел.
Расследования не было. По крайней мере официального. Не было ни убитых, ни дела, ни процесса, никаких отголосков. Абсолютно ничего. Всего лишь несколько тысяч вопросов, на которые я охотно отвечал. Сперва их задавали легавые, они назавтра же явились ко мне в больницу. По-моему, они так ничего и не уразумели в моих показаниях. Когда через пару недель я вышел на волю, меня взяли в оборот другие люди, куда более серьезные, совсем иной закваски, чем скромные участковые инспектора. Эти были из Интерпола и устроили мне что-то вроде допроса нон-стоп, который длился многие дни. Я уж было испугался, что меня снова ждет ужас заключения и все такое. Они проверяли меня на детекторе лжи, требовали говорить начистоту, а мне и не хотелось ничего скрывать — ну, почти ничего, — и я подробнейшим образом разыграл перед ними эти пять дней, временами впадая в пафос, как скверные актеры; я не забыл ни одной, даже самой незначительной детали, описав им и бордовые кроссовки, и дольку чеснока от Диора, и именинный торт Фреда, так что под конец они вежливо попросили меня избавить их от рассказов о качестве птифуров и точном количестве осушенных мною рюмок мескаля. Затем они сравнили мои показания с тем, что сказал Жан-Марк, в ожидании того, что скажет Джордан.
Ибо живой мертвец выжил. Понадобилось много дней, чтобы вывести его из комы, и еще больше месяцев, чтобы он соблаговолил раскрыть рот и заговорить. Мне не разрешили навестить его. Да у меня и самого не хватило бы на это храбрости. Может быть, через много лет, если наши пути вновь сойдутся, я перескажу ему, как смогу, мемуары его отца.
Но гвоздем программы на всех этих допросах был мой рассказ о самом себе, когда я излагал, кто я, чем и как существую. Мне пришлось объяснять свой паразитический образ жизни, свои средства к существованию. Они тщетно старались определить мой статус, приписать меня к какой-либо известной им категории, и я охрип, доказывая им, что я не бандит, не сутенер, не дилер, не бродяга, а просто жалкий халявщик, живущий одним днем, да и то ночью. Слушая меня, эти парни только недоуменно переглядывались.
Тогда я сказал им, что в провинции не продержался бы таким образом и двух суток; это был единственный раз, когда мне удалось вызвать у них ухмылку. Дальше они спросили, читал ли я мемуары старика, и вот тут-то я им соврал первый и единственный раз. Я боялся не зря, я был уверен, что, скажи я правду, они меня живым не выпустят. Я так и не узнал, арестовали ли они Стюарта и как договорились с американскими властями. Но, наблюдая за их вялыми розысками, я убедился, что никто из них не хочет копаться в этой куче дерьма двадцатилетней давности. Скоро я почувствовал, что они сами не знают, как со мной обойтись. И когда мне посоветовали «скрыться с глаз долой», я не стал спорить. Печальный конец Бомона, как следствие его разоблачений, убеждал куда красноречивее, нежели их туманные намеки на пользу молчания. Намек понят. Дело закрыто.
Передо мной ставят зеленоватую формочку с шариками липкого риса, издающими вполне приятный аромат.
— Опять еда, в такое время суток?!
— Здесь кормят каждые четыре часа; это единственное, что они придумали, лишь бы мы не расхаживали по салону.
Жара усыпила меня. Я открывал глаза только в те минуты, когда мой попутчик выбирался в туалет, что он, к сожалению, проделывал регулярно.
Сестра приютила меня на несколько недель, пока не зажила нога и я не начал нормально ходить. Я сидел с ее малышами и устраивал пикники в лесу. О сигаретах я забыл напрочь и не выпил за это время ни капли спиртного. Подлечившись, я занялся тем, что и планировал на остаток лета: мне выдали ключи от семи квартир, которые я, как обычно, охранял до самого сентября. Два месяца спокойного домашнего житья, в обществе ленивых кошек, перед телевизором. Я прочел кучу книг, и мне ни разу не захотелось высунуть нос на улицу после восьми вечера. Я счел, что болезнь отступила и что теперь самое время поразмыслить о будущем, пока не наступил учебный год.
Но сперва мне предстояло уладить одно дельце.
* * *Аэропорт Дакки напомнил мне старый сквот за Монпарнасским вокзалом. Перед зданием торчат два-три ветхих самолетика, куда грузчики в шортах запихивают какие-то грузы, а дальше, до самого горизонта, сухая, выжженная земля, поросшая кустарником. И солнце, которое явно не намерено вас щадить. Совсем наоборот. Я провел восемь часов под вентилятором, сидя на деревянной скамье среди дремлющих пассажиров. Вернувшись в самолет, я увидел, как одна из стюардесс упала в обморок как раз перед взлетом. Поскольку она не спешила прийти в чувство, нам принесла еду ее коллега.
Жан-Марк сейчас в Нью-Йорке, и ему хватит там башлей по крайней мере на полгода: он получил сказочный гонорар за рекламный ролик, где сыграл японского туриста. Сообщил, что на обратном пути заедет во Вьетнам, дабы познакомиться с отцовской ветвью семьи. И он никогда больше не вспоминал о том, как Стюарт и Рикки приставили ему пистолет к виску, вынудив к признаниям. Единственное, что я смог выжать из моего друга-сумиста, была лаконичная фраза, успокоившая меня насчет его репутации: «А все-таки я ни разу не дал им в морду».
Несколько часов дремы и миниатюрных пейзажей внизу, вот и Рангун. С высоты трапа Бирма выглядела вполне живописно: цветастые джунгли, гигантские деревья, пышная влажная растительность.
— Вы не сможете покинуть самолет.
— Жаль!
— Я-то сам мог бы выйти в город, у меня семидневная виза, но сейчас просто времени нет. Если хотите, могу вам порассказать, что и как.
— Нет, спасибо.
Во время допросов я непрерывно говорил им о своем друге, неком Бертране Лорансе. Который исчез — исчез буквально, физически. Никто, кроме Бомона, не знал, где он. Или же никто не пожелал мне сообщить о его местонахождении; мне казалось, что всем на это плевать.
А ведь у этого поганца были родные. Время от времени он намекал на свои вандейские корни. Мне не очень-то улыбалось снова играть в сыщика и листать толстые телефонные справочники, обнаруживая там кучи всяческих Лорансов. Тем не менее я занялся розысками, с риском все-таки наткнуться на нужных мне Лорансов и, может быть, услышать в ответ, что его тело нашли в какой-то мрачной дыре. И что он умер от голода. И что это моя вина. Я поискал-поискал и бросил это дело.