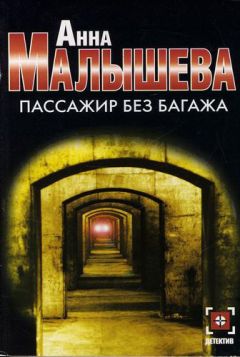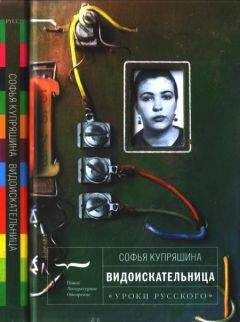Софья Купряшина - Счастье
— Чой-то лучше-то? Ты опять что ль глаза залила? Я говорю:
— Да Крамская лучше нас всех, вместо взятых! Я сперва думаю — мужик! Линия мужская, не бабья!
— О чем и базар…
Вот так, деточка моя. А что касаемо стипендии — тута сложнеича. Должна у тебя выставка быть состоямшись. А ежли она не состоямшись — то прям дажа и не знаю что. Тогда-то. Коль не состоямшись она. Вот тебе, золотая, анкетки, позаполняй их, биограхвию — и таку, и сяку, заяву накатай, что, мол, жалаю быть вступленной к вам, пидорам гнойным — ну и всяко-разно… Разбересси, словом. У мене ноне мозги — как хуй у Василия Андреича — на полшестого, я те ноне не помощница. И давай, с богом, надежда наша, Евгения Гранде, пиздуй до хаты, у мене делов сёдни — хуева туча.
Так сказала художница Петрова-Водкина и резво вытолкала Женю за дверь.
Женя сбежала вприпрыжку по деревянной лестнице, покручивая на одном пальце сумку с анкетами и повизгивая от радости. Что же делать? Купила Лиске «Чаппи», заварила с геркулесом небольшое количество его, чтоб надольше хватило. Пристала, как банный лист, к соседке, чтоб она отдала ей «ну хоть какой-нибудь, хоть какой-никакой ошейничек бы, можно рваный, и с поводочком бы…» и получила в ответ очень сносную собачью фурнитуру.
Она вспомнила слова Петровой о том, что «стипуху дадуть, коли ты жальчее себя опишешь — мол, средствов никаких, голодно, холодно, матерьяльцу, кистей, бумажки, красочек, картону грунтованного, маслица конопляного и протчего по нашему художняческому промыслу не имеешь, онна мыкаешься, туды-сюды…», и чувствуя потребность снова выебнуться на всю катушку, стала заполнять и составлять документы. Спервоначалу написала автобиографию.
«Я, Крамская Евгения Анатольевна, родилась в 1868 году под забором. По приютам я с детства скиталась, не имея родного угла. Ах, зачем я на свет появилась, ах зачем меня мать родила!»
Затем Женя съела феназепамчику, запила его водкой, прочитала «Азбуку» Л. Н. Толстого, умилилась и продолжала свою биографию:
«…Помню, я была мала и грязна, тетка дала мне рваную тряпку, кривую иглу и гнилую нитку. И я сшила себе юбку. Юбка была плоха, но я была горда, что сама сшила эту жуткую юбку. Раз тетка дала мне булку. Булка была мала, а я была грязна и горда, что сыта. В 1985 году с грехом пополам закончила школу (долгонько же я училась — отметила она про себя). А до того, как закончить ее, меня брали „в дети“. Только зачем им дети? Хмурые, придут с работы — молчат. А потом как заскрипят:
— Же-е-еня! В кастрюльке ка-а-ша была. Ужели ты всю съе-е-ела?
— А в кастрюльке этой, Василий Андреевич, каши — на донышке (что это еще за Василий Андреевич? — смутно удивилась она, но зачеркивать не стала). А когда я закончила школу, то пошла наниматься в завод. А директор за сиськи пошшупал — говорит, что не вышел твой год. И пошла я опять побираться, по карманам я стала шманать. Ах зачем я на свет появилась, ах зачем родила меня мать. Работала намотчицей, прачкой, судомойкой на пароходе. Там меня приметил матрос А. Бурый. Он велел мне много и хорошо рисовать, никогда не покушался на мою честь и сказал, что стаканы разбила не я, а кастелянша Г. Хмурая. Но все-таки списали меня оттуда по беременности. Родила. Оставила ребенка в роддоме. Продолжала рисовать запоем, пить, что нальют, ночевать, где придется. В 1886 году прибилась к передвижникам. Стала двигаться с ними по России. Вышла замуж за И. Н. Крамского. Он играл в карты и бил меня, а когда проигрывал, то расплачивался мною и с передвижниками, и с простым людом. А вскорости помер от цирроза печени.
Теперь я живу на квартире. У меня есть собака Лиска. А больше мне и не надо никого. Она хорошая, рыжая. А стипендию свою, если дадите, то я использую на то, чтобы купить антиблошиный ошейник, макарон, „Чаппи“, водки, ботинок и всего другого по нашему художняческому промыслу. Пишу картины.
Е. Крамская.»
Женя так сильно увлеклась, что не слышала, что Лиска сначала выла под дверью, а потом мощно насрала в коридоре. Она хотела наподдать ей как следует, но приход был такой сладостный, что она махнула рукой, выпила еще полстакана и стала писать заявление.
«Прошу меня зачислить вас, жлобяр, в вашу ебучую организацию, потому что я иногда прекрасно все понимаю. Как пахнет эта туманная прель, как посинели здания и волосы вьются как! Покорнейше прошу вас принять меня в вашу стаю и форму 85-ХУ на что-нибудь приличествующее аренде нежилых помещений. А то что же это. Ингридируйте марку с поправкой коэффициента, ибо — свершилось!
Мы будем кутаться
в туманы креп-де-шина
И манго, манго, манго…»
Вместо Петровой-Водкиной в 33-й комнате сидела мрачная акварелистка Пота Пиросмани. Она молча вырвала у Жени из рук документы, положила на полочку и велела звонить.
Через месяц Женя снова стояла на пороге 33-й комнаты. Петрова, Акынова и Пиросмани встретили ее мрачным молчанием.
— Гавары, Пытрова-джан! — властно приказала Пиросмани. — Толко тывой народний жаргон можыт выразыт нащи мыслы по этай девущка!
И Петрова сказала.
— Что ж ты……………………………………………такое…………………натворила?! Что ж ты………………………………………… понаписала-то здесь?! Ведь Крюков прочитал — не емши обосрался! Ну, ебонашка! Ну вмастила! Дерьмовочка чертова! Сирота, понимаешь, бесприютная! Тебе что сказали делать?! Биографию писать! А ты чо?! Романы тискать?! Балетриска сраная! Да хуль базарить — дело сделано. Никуда тебя, красотка, не примут, будь у тебя хоть мильон выставок! И забудь об кружке об ентом. Пьяная что ль писала?!
— А может… я перепишу? — хрипло и тихо спросила Женя.
— Да она и щас не въезжает ни хуя. Ведь Крюков читал уже! Василь-то Андреич! Ты вяжи этот базар, чучело, ты чего в анкетах-то накалякала, помнишь хоть, нет?!
«Так вот откуда взялся Василий Андреич», — подумала Женя, схватилась рукой за стену и тихонько сползла на пол.
— Патка, за водой! — взвыла Петрова.
Она опустилась перед Женей на колени, приподняла ее и понюхала.
— Ну так и есть. Непохмелимшись. Нежравши. Немывши.
Она вдруг вся искривилась и заплакала над Женей, крепко прижав ее к себе.
— Господи! — голосила она. — Да за что ж нам доля такая! Сидели бы с детями по кухням, котлетки б там, кулебяки… Нет! Повело на блядки! Писать! Выставляться! Епона мать! Ведь девка молодая ишшо — а уж во гробе одной ногой и крыша от водки съехамши. Ну ладно я, старая проблядь — но ей-то за что?! Пожить бы хоть ей-то! Гори они огнем, картинки ети! Говна-пирога! А мальчик-то у ней на крыше — помнишь, Люд?! Не оторвать ведь глаз… Как же это бывает-то такое!..
Но она не умерла, потому что от этого еще никто не умирал, — как писала Майя Ганина в своем рассказе «Бестолочь». Она не умерла, но сделала для себя кой-какие выводы, хотя все равно не могла вписаться ни в какое общество.
— Слышь, Лиса, — сказала она, прогуливая как-то Лиску вокруг дома, — я тебя кормить больше не смогу. Не будет бабок, Лисица, ни на уколы, ни на шампуни… А если ты взбесишься и тяпнешь меня? А если чума? Или еще чего? Возиться с тобой… Так что я сейчас поводок отстегну — и ты иди куда-нибудь. Ну! Пошла!
Лиска плелась за ней на расстоянии, начиная догадываться. Женя взяла полкирпича, прицелилась и кинула ей в голову. Лиска взвыла отчаянно, как в первый день их знакомства. На рыжей шерсти появилось влажное темное пятно. Она поплелась в обратную сторону на неверных ногах, а Женя пошла к дому.
Потом они вдруг обернулись одновременно и долго смотрели друг другу в глаза. Женя снова нагнулась за камнем, и Лиска, приседая на задние ноги, медленно побрела дальше.
Женя стояла, прислонившись к стене. Она хотела закурить, но руки ходили ходуном.
— Нет, надо научиться прилично себя вести, — думала Женя, лежа на полу в компании с водкой, феназепамом, Тернером, Ван Гогом и Брейгелем. — Так ведь нельзя — полинаркомания, мокруха, афиши, офорты, Крюков этот проклятый… Были ведь книги о том, как правильно общаться с людьми. Анатолия Добровича, например, какие хорошие книжки — «Фонарь Диогена», «Искусство общения», «Психогигиена» какая-то… Поговорить бы с ним…
В окно светили прожекторы соседних строек, и временами на стене возникали силуэты деревьев, освещенных сварочными вспышками. Каждый раз, когда комната освещалась этим холодным, отталкивающим, мертвым светом, Жене казалось, что в стенах возникают и чуть приотворяются двери.
Она вытерла слюни, сопли и подползла поближе к шкафу, чтобы не бояться вспышек. В том месте, где она лежала, остался мокрый след. Снова сверкнуло, и от стены отделился высокий сутуловатый человек в белом халате.
— У меня белье пропало в прачечной. Нет и все. Ходите без кальсон, — сказал он.