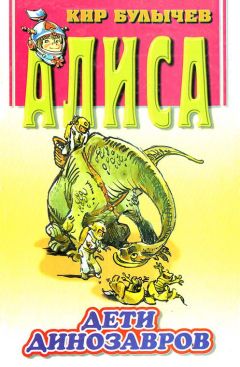Андрей Темников - Зверинец верхнего мира
Нехорошее, мелкое, Надежду я очень даже понимаю. Гнусное, как все, что слышится в последнем предложении, – но только не страх, а гадливость. Сзади, в саду, уже кто-то кривлялся, содрогаясь как бы от приступа рвоты (это Василек, рыжий недоросль с отекшими глазками, единственный и любимый сын башнеподобной заведующей детского сада), а я смотрел на отвратительное личико, которое умоляло меня: «Открой. Я не знаю, как у тебя открывается калитка». Я еще не узнавал голоса. Есть люди, появления которых тут никогда не ждешь. Невозможно! – и они не могут быть узнаны.
Оно осело, когда я подошел, чтобы его впустить, наклонилось, исчезло в своих черных волосах – упало с цыпочек, на которых в темноте тянулось, ища какого-нибудь замка или засова, сложнее, чем моя необструганная вертушка. Мелкое, и еще мельче и неприятнее оттого, что черные волосы сливались с темнотой. У него был профиль полумесяца, испачканный розовыми веснушками, и такая пухлая нижняя губа, что верхней, в темноте, казалось, нет совсем. Более мелкие черты: утиный носик, мягкая острота подбородка, нежность век над густо вымазанными маркой тушью ресницами – впрочем, казались умилительными. А тот, кому, как мне, посчастливилось видеть уши…
В целом, однако, это личико мне трудно удавалось. Орудуя довольно острым прививочным ножом, я поправлял то там, то здесь, отходил на коленях на несколько шагов назад, ломая ветки, и убеждался, что опять ошибаюсь, и того ночного образа нет. А погрузить во мрак…
Мы были едва знакомы. Когда я увидел ее впервые, то сказал себе: на таких женятся водители-дальнобойщики, чтобы в пути не слишком скучать по дому. А представлял я ее себе совсем другой. Имя и отчество – только это богатством аллитераций вызывало к воображению невысокого роста сильную и хрупкую красавицу с легкой ногой, играющей длинными пальцами. Нас познакомил ее любовник, а до того он говорил о ней с восторгом и откровенностью, принятой у нас в редкие трезвые часы, когда кто-то пошел за вином, а другие ждут его и, вместо того чтобы перелистывать журналы… Воплотясь, она меня разочаровала. Волосы были собраны узелком на затылке, и вся она казалась мне собранной в узелок позади себя. Ее любовник уже тогда не знал, как ему разделаться с этим не слишком увлекательным летним романом, а я, почти не стесняясь, разглядывал ее, сидящую напротив меня за столом в саду. За тем же самым столом, широким и синим, куда я ее теперь, взявши за руку, подводил. Я смотрел на нижнюю губу, на розовые веснушки, на близко посаженные глазки (правда, голубые-голубые), на мешковину студенческой робы с каким-то разводным серпом на рукаве, эмблемой отряда, и, осторожно опустив глаза под стол, на красные, бесформенные носки и дрянные белые босоножки… я смотрел на все это и спрашивал себя: ну почему? Ведь должен же быть хоть один внешний признак, чтобы этот пижон, носивший на пиджаке настоящий американский значок величиной с блюдце и башмаки на платформе, этот самодовольный мальчик-мажор, чьи слюнные железы работают, как у кобры, и береги глаза, собеседник, если ты споришь, – ведь что-то в ней должно было его… или это была только похоть? Бедняга так страдал оттого, что не вышел ростом, хоть и был по-настоящему смазлив, и порой, в покое, в задумчивости, которая ему очень шла, завиток его носа заканчивался чем-то искренним. А искренность в те времена была чем-то вроде добродетели, и если поэта хотели похвалить, то говорили, что у него искренние стихи.
Час спустя мои сомнения прояснились, и я увидел, что, несмотря на кажущуюся тупость и даже упрямство, она очень податлива. Но это было еще не все. Было еще одно обстоятельство, неоценимое, которое его в ней привлекало и делало ее по-своему редкой женщиной… (Я содрогаюсь от ужаса и омерзения, вообразив себе, что сейчас пересказываю эту историю Наде или Павичу. Ну уж нет. Я знаю, что никогда, никогда мой скучный дневник не будет написан.)
Это самое обстоятельство предстояло мне узнать только год спустя, в тот день, когда я увидал ее за воротцами и когда ее личико произвело на меня, пьяного, такое воздействие. Важную роль в этой истории сыграл повешенный, который болтался над столом и пел, то как Карел Готт, а то как Мирей Матье, не помню, кто сменил в нем кассету, вообще, мои пьяные воспоминания мешаются и путаются.
Левонтьевна достает из ложбинки между огромных грудей бутылку молочно-белого самогона, смазливый, с головой мертвого муравья, Ванечка Баргузинский выбирает в горсть таблетки сонника, чтобы разом их проглотить и запить стаканом портвейна, Сашенька, еще не достигший пятнадцати лет, еще не взявший в рот ни капли вина, простодушно хватает каждую грудь, до какой может дотянуться. Не забыть пухлявого рыжего мерзавца по фамилии Адамович, который мочился, встав спиной к заборчику, и норовил сбить со стола хоть один граненый стакан. И Женю, Женечку даже, с тяжелым взглядом дурнушки, сиплым голосом и фигурой манекенщицы, которая, единственная из всех, не проявила к этому подвигу никакого восторга. Выскочила из-за стола, побежала в дом, сопровождаемая двумя тенями, своей собственной и еще чьей-то, чуть помедлившей, чтобы найти на столе не слишком обоссанный стакан. Висельник сменил гнев Мирей Матье на хищную милость «Песняров», бывших тогда еще очень ничего… Но танцевать!.. Мы ведь не часто танцевали. Слишком скучно, просто незачем было дрыгаться или обжиматься. Кто это придумал? И уж, конечно, не под «Песняров» («Молодость моя: белорус и я…») Мы, двое воркующих голубков, сидели на том конце стола, где скопилось меньше всего граненых стаканов и куда Адамович поэтому не целился.
Тема для разговора? О Боже! Как он дает понять, что она ему надоела! Ведь и сюда не приехал, на дачу, к тетушке, и ни разу, ты понимаешь, ни разу, а вот ведь уж год прошел, не появился у нее дома. Родители заподозрили, что у нее есть какая-то маленькая, юркая тень – выныривает из подъезда и бросается прочь, в сторону трамвайной остановки. Из окна кухни хорошо заметна ее суетливость, и папа однажды обварился из своей любимой кружки, огромной, в зеленый горошек, когда она, эта тень, хлопнула дверью на пружине и понеслась со двора. Ничего особенного, сколько их было, таких жалоб, одна другой тоскливее: спит, а не женится.
«Танцевать, танцевать!» – это вокруг нас уже заходили, раскачиваясь, пары. Левонтьевна и маленький Сашенька, который уткнулся в нее лицом и утонул, и таким запомнился. Любаша и Баргузинский, оба с закрытыми глазами, они сделали два-три колебания, повалились на лавку и уснули, не разнимая рук. Адамович – обхватив необычно высокую Свету, у которой сквозь кофточку на плоской груди соски тлели, точно два окурка, и до дыр протирали ткань. Вялая ветка щекотала ей шею, и за то была сломана – мной.
Этой веткой я осторожно провел по личику, и оно сморгнуло слезу, грозившую превратиться в черный подтек. Ее руки с короткими красными ногтями, облупившимися до темной каемки под ними (видно, тетушка пригласила ее за сливами), легли мне на плечи, подумали так такта три и поползли вверх и там сцепились, захватив мою шею. Поднесенное к моему лицу, личико закрыло глаза, подросло, склонилось набок и перестало быть гадким. Раздался смешок. Адамович крикнул: «Поздравляю, ты ее сегодня ебешь!» И сунул мне плоскую сигарету. Держа ее во рту, я наклонился к его подруге, чтобы прикурить от ее махристого соска… Ах нет, это мне снилось. Потом. Годами… Адамович, конечно, как-то бочком подскочил ко мне и, брызнув слюной в ухо, оглушил какой-то гадостью, которой я не разобрал. И еще он с поворота двинул меня Светой так, что сверху стукнула она меня по темени своей легкой головкой, которая у нее всегда плохо держалась. А уж тут было выпито, выпито… Этого никогда не снилось.
«Поздравляю, ты ее ебешь», – снящаяся рожа щурила, как в комиксе, отекшие, кривые от улыбки глазки… Черта лысого, не дождетесь… Но они все, Боже мой, и Женечка, овеваемая мерзкой тенью, стояли под дверью. А сначала был танец, медвежий, медленный танец на негнущихся ногах, когда я говорил ей: «Ничего, он еще вернется, завтра же приедет на первой маршрутке в семь утра». – «Не приедет», – умирали губы личика и горячо, хорькуя вокруг моих, искали… Наш поцелуй был замечен и отсалютован ленивым матом. Второй тоже понравился. И мне пришлось вытолкнуть изо рта голодную устрицу, которая тут же превратилась в ее язык, и он удалил с верхней губы остатки блеска.
«Ты любишь, любишь?»
Разве они когда-нибудь отвечают? Раскачиваются, полусонные, поглощают все, что им нужно, но никогда… никогда не ответят. И это замотало: я, мол, из жалости, ведь ты никому… Ее щека искала мою скулу и, сквозь темные волосы, жалась к ней, терлась об нее в ритме совсем не танцевальном. Третий поцелуй был почти целомудренным, потому что после этого я повел ее к сарайчику. Не сразу. Слишком много тел на пути, пьяных, глумящихся рож, травы, палок леса, который я никогда не вырубал вокруг дома. Эй, оставьте же нас, наконец, одних, и тогда, ей-богу, я ее не трону. Но шли следом, тянулись по земле, мяли мамину любимую огуречную траву, отцветшую голубыми цветочками. Семена в конверте прислала с сибирской дачи мамина одноклассница, и там еще была выписка из какой-то энциклопедии, что, мол, думали об этой траве Плиний Старший и Диоклетиан. Я тоже наступил на кустик огуречной травы, он хрустнул под ногой, сухой и пряный. Мама посеяла траву перед терраской сарайчика. Грядка в три ладони, дальше ступеньки. «Ты ее ебешь». Черта лысого, в такой темноте. Отец мой, параноик, панически боявшийся пожаров, хотя в жизни (и до самой своей смерти) ни одного из них не видел, повсюду расставлял баночки с водой и на осень обрезал провода, ведущие к сарайчику, моему жилью, и убирал оттуда все, на чем можно спать. Железная кровать с пружинной сеткой. Больше в сарайчике ничего не было.