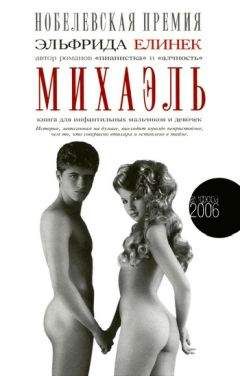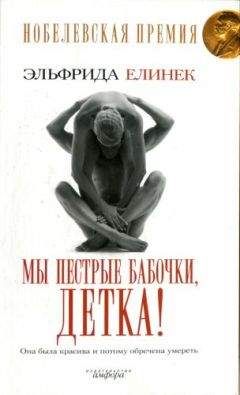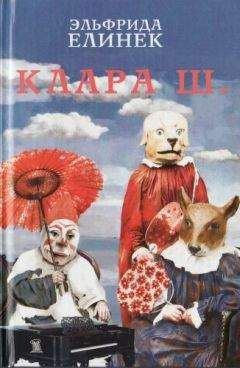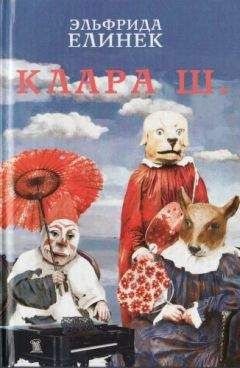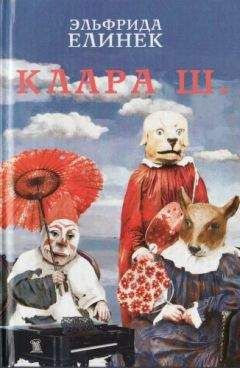Эльфрида Елинек - Дети мёртвых
Хозяйская собака окружена плотной людской гроздью. И гроздь брызнула во все стороны, прыснув от смеха, как будто собака показывала фокус, который теперь завершился, ибо огромное животное снова вскочило на ноги, энергично отряхиваясь, того и гляди забрызгает всех, но ведь на дворе сухо. Её глаза тоже вернулись, они распустились, как клевер, ожили, за двумя окнами зажгли свет, и собака довольно потрусила к выходу. Смех облегчения, снова займите ваши места! А то ещё остынут. Карин тоже рассеянно садится на своё опасное место и снова погружается в тёплые околоплодные воды своей матери, которые омыли её жужжанием термостата, — ведь эту плодовую воду держат в термосе тёплой. Но что-то осталось, переход, тонкий мосток, который застрял у Карин Ф. в горле, как кусок десерта, тогда как другие давно всё съели. Частокол слов вокруг отражает силу воображения своих владельцев; занавес перед состоявшимся событием, прикрывающий храм, где люди теперь поедают бога, который получил три звезды в путеводителе по святым местам окормления, немного разорван, чтобы дать проход в следующий ресторан. Там сидят едоки, которые перепробовали уже всё, что им подали, и теперь они должны приступить к поеданию друг друга. Должно быть, их прохватил «Gaul Мillau»! Что они себе позволяют… Вначале они делают заказ, чтобы свершилось чудо и им подали в качестве главного блюда бога, аккуратно запечатанного в облатки карлсбадских вафель, а потом они воротят от него нос и принимаются есть поедом своих сочеловеков! Я уж должна сказать, коли я обратилась к Христу по его настоящему имени, я не имела в виду, что из страха перед ним надо спасти всю природу, достаточно будет привести в безопасное место того, кто, разогретый почти до кипения, даётся тебе в голые руки. Но мы его, естественно, тотчас упускаем из рук. Так же, как не спасёшь ведь сам себя автоматически, разве только если ты ещё младенец или, как в нашем случае, собака. Тут нам навстречу протягиваются большие мягкие руки бога, и будет правильно посмотреть в зеркало и сказать: это иду я, Карин. Но это платье мне совсем не идёт.
Успокоенные, умиротворённые люди снова вернулись к еде, и госпожа Френцель тоже преклоняет главу в свято-пресную воду из источника Вёслау, которую любой, кто захочет, может провести к своему предварительно вытертому столу. Классное святое причастие, в котором может принять участие кто угодно. Но от сходней этой гостиницы исходит волна жара, из этой женщины, этого чудовища, поток крови которого грозит отвориться. Из этого сосуда субстанции, по которой даже девяностолетние мужчины ещё могут безошибочно отличить настоящую женщину от фальшивой, бьёт высокий огонь, и он бьёт Карин в лицо. Как неметко, как неуместно, как не ко двору приходится женственность, если она попала в монстра, чья кровь отвердела в лёд или вовсе сбилась в ком плеромы, лишь бы только женщины снова могли стать невестами. Семя тоже ещё попадается в них. И жар едящих добавляет жару, в котором они спаиваются в коллектив. Над Карин пылает дрожащая купина страусовых перьев неугасимой тяги к еде, языки огня свиваются и спутываются, как кустики лобковой поросли людей; и пахнет так же отвратительно, как будто палят шерсть — там, на декоративной спинке стула, где эта шерсть в виде исключения пробилась прямо из дерева; это вам не пластиковая отливка, которую впору выбрасывать ещё до того, как она сделана. Постояльцы встречаются друг с другом под этим тёмным пологом, под этим балдахином, куда со звоном вносится еда. Они вбивают друг другу в головы остатки дня. Они промывают кишки, это как купель спасения, когда они беседуют между собой о пережитом. Кроме сидола, моющего средства, не допускающего разводов и бесстыдно прильнувшего к оконным стёклам, снаружи к ним прижались ещё более срамные губы и ласкаются, язычки жмутся к окну, просятся внутрь, тычутся в тёпленькое, но не пускает мембрана. Это приводит в волнение кровь, символом которой мы сделаем ГЕРМАНИЮ. Эта страна дала столько образов и снова прибрала к рукам, супротив неё другие страны со своими славами просто бесславные и безобразные миры! В ней было столько непрерывного движения туда-сюда, такая круговерть, такой обмен учениками школы жизни, что господь не приведи! И не абы от каких родителей, потому-то немцы так и неугомонны, что в жидкости их горючей стихии царит вечное движение, и всё под горку И они ещё недовольны! Вот оно как обстоит с кровью, которая не знает удержу, а с водой и того пуще, потому что она ещё жиже и тоньше, чем нам бы хотелось быть. Болота стоят, ты же, радость моя, всё течёшь, и от тебя, Гёрм-Австрия, тарам-там-там, исходит это опьянение, оттого что твои едоглотатели поглощают с колбасами столько крови или намазывают на себя, становясь день ото дня всё краше. Нельзя же всерьёз требовать от госпожи Карин Френцель, чтобы она голыми руками устраняла неисправности в камере сгорания! Она хоть и служит здесь, сама не знает кому, но не должна же копаться в кровавой жиже, как ассенизатор. Что-то нанизывается на вертел в телевизионных устройствах обжига. Сейчас его засунут в пекло. Карин вскакивает. Мать тянет её на место. Ну что опять? Мать когда-то заложила первый час жизни Карин, и то же, видно, сделает и с её последним; дочери, чей голос — её единственный документ, все остальные у неё забрали, ни о чём не надо беспокоиться. Мама всё уладит. По-прежнему никто, кроме Карин, пока не улавливает каких-либо чуждых элементов в этом сказочном ландшафте. Но кровоточащее сердце на изображении Иисуса уже всё разбухло и ждёт не дождётся, когда же сможет выплеснуть всё своё изобилие на едящих, которые, к сожалению, наполовину уже разошлись. Зато одинокие только теперь по-настоящему оживают. Мать продолжает есть — улитка, разъедающая основу, к которой присосалась. Надо приложить усилие, чтоб оторвать её. Как бы это выразить: духи мёртвых содержат в себе всё, а сами не содержатся нигде? Карин судорожно, потупясь, смотрит, как бы ей не пришлось выглядывать из окон, забитых человеческими ногтями. Также ей не обязательно видеть и то, как вилки и ножи вонзаются в мясо в повторяющемся акте насилия над мёртвыми. А вон там грубошёрстный коврик — не из человеческой ли шкуры? — свернувшийся калачиком, как кошка на коленях. Контуры её прежнего владельца ещё отчётливо видны по тени, и этот владелец напряг мускулы, чтобы прыгнуть на дорожку, которую купец сердито раскатал перед нерешительными покупателями, и включить пожарную сигнализацию. Тоненькая рюмочка разбилась, и из часов посыпался песок. Осторожно! Свёрнутые мешки трупов того и гляди обрушатся на едоков и будут хлестать их, как удары кнута. Они хотят, наверное, взять своё последнее историческое значение, которое им причитаете. Нас случайно застукали здесь, на месте событий, с поличной травкой, где уже всё должно было порасти быльём. Мы поляжем здесь в интимной близости с собственной пищей. До пастбищ доносятся голоса нашей церкви, гулкие и полые, как всегда. Полная жизнь, ни больше ни меньше, — вот то, что хотят снова обрести предметы (или что там они есть), сколоченные абы как, которые рвутся добрести до суши. Они довольно долго странствовали в одной лодке со всеми этими гордыми «кто был никем», нищими духом, которых церковь тем охотнее принимает в своё лоно. И для всех этих милых бутузов мёртвые должны играть роль старших братьев и сестёр, присматривать за ними! Неудобно долго путешествовать со всеми этими противоположностями, которые могли бы стать всем, если бы унаследовали дело своих родителей. История должна, как и мы, по одёжке протягивать ножки, пока не заметит, что и эта одёжка состоит из трупов. Их сейчас сорвут, как карнавальные хлопушки. Поднимутся лавины пыли, затмят деревенские светила, а также скроют множество мелких светильничков разума, которые служат скорее для украшения. Да, уж если у нас есть культура, так её у нас много, и это либо овощная культура, либо культура еды.
В Карин Ф. занимают место женщины, этому она не может даже воспрепятствовать, поскольку все они тоже Карин. Не такое уж миловидное лицо у этой уже пожившей женщины, чтобы все хотели смотреться, как она. Как партия недожаренных драников, госпожа Френцель кажется отбитой об стешу и прижимается к ней, будто хочет забиться в щель. Она совершенно вне себя, и даже мать не может вернуть её обратно. Дочь съехала совсем!
О ней можно сказать также, что она угодила не туда. За соседним столом сидит пожилая супружеская пара, целая и невредимая, он далеко не вдовец, и она не вдова, к тому же они неделя как сменили автомобиль и теперь испытывают новенькое четырёхтактное чувство и охотнее заглядывают на парковочную площадку, чем в других людей. Мать Карин неудобно перед ними. Она делает вид, что ищет под столом лучшей доли, тогда как долька апельсина лежит на столе. Мать многозначительно дёргает дочь за подол юбки, чтобы та его опустила. Потому что Карин действительно задрала подол, будто собралась брести через реку. Видны довольно длинные трусы, под которыми бытие тщетно пытается добрести до суши, которая отступает всё дальше, а наше дело лишь слушать и наслаждаться. Звенят приборы. Твёрдый предмет падает в миску вместе с моим металлическим вскриком. Да, яркий свет, в который госпожа Карин Френцель ввинчена так, будто светится сама: цветные концентрические круги, которые она накручивает, как объектив камеры, в темпе вальса, — пожалуйста, будьте любезны, пока вы не пропали пропадом! Дома, прежде чем уйти, сохраняют в компьютерной памяти деревянный запас башмаков; врачи тоже носят такие бахилы. Сестра Ютта, стерильно домыться и закрыться! Что-то таз покачивается.