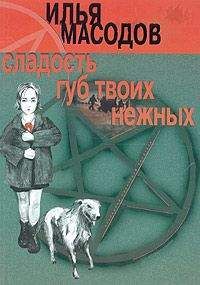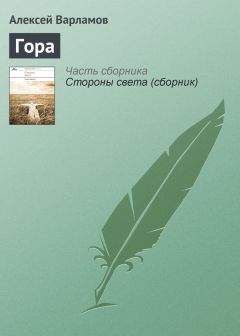Илья Масодов - Школа 1-4
— Закрой, — слабо соглашается Наташа.
Стукнувшая дверь отделяет Любу от света, и она чувствует: может быть, это навсегда. Лязгает воссоединившийся с самим собой замок.
— Зачем она нас закрыла? — спрашивает Люба в наступившей непроглядной темноте.
— Чтобы никто не вошел, — устало говорит Наташа. — Сядь ко мне.
Люба нащупывает ее руками и опускается куда-то рядом. Наташа сразу целует ее в щеку сырыми заплаканными губами.
— С тобой не так страшно, — тихо говорит она.
— Страшно?
— Да, мне было очень страшно. Так страшно, что не хотелось даже жить.
— Если бы мне было страшно, я бы не сидела в темном подвале, — замечает Люба.
— Ты не понимаешь, — Наташа ровно и тепло дышит ей в ухо. — Я тут прячусь.
— Прячешься? От кого?
— От страха.
Они замолкают, и Люба пытается представить себе страх, от которого Наташа спряталась в подвале.
— Чего же ты боишься? — спрашивает она наконец.
— Поцелуй меня, тогда скажу.
Люба вслепую тычется губами и попадает в щеку возле Наташиного носа. Наташа тихо смеется, обвивает ей руками шею и проводит языком по Любиным губам. Язык у нее мокрый, теплый и невесомый. Потом она собственной щекой отирает Любе рот, ее волосы щекочут лицо.
— Не чево, а ково, — шепчет она, и целует Любу в рот одними приоткрытыми губами. — Ково.
— Скажи уже, а то мне страшно, — просит Люба.
— Тебя они не тронут — им нужна я. Они меня ищут, повсюду, понимаешь? Они пришли издалека, только для того, чтобы меня найти, из другой земли, из другой жизни.
— Кто это — они? — спрашивает Люба, немного холодея.
— Оборотни. Мертвые звери, которые превратились в людей.
— Звери, — шепотом повторяет Люба.
— Волки, медведи там всякие, которые давно подохли. Давно, много-много лет назад.
— Боже, какой кошмар, — ужасается Люба, вцепившись руками в Наташину одежду.
— Ты в Бога веришь?
— Нет. Бабушка моя верила.
— А ты — просто так не веришь, или специально: думаешь, что Его нет?
— А Он что, есть?
— Никто не знает. Но если Он есть, то Он большой и страшный. Он всех нас видит. И вот этого, — коротким мазком Наташа лижет Любу в нос, — Он очень не любит.
— Почему?
— Никто не знает. А знаешь, что оборотни сделают со мной, когда найдут? Всю кровь высосут.
— Врешь ты все, — отталкивает Наташу Люба.
— Тссс, — Наташа закрывает ей ладонью рот. — Слышишь?
Сперва Люба ничего не слышит, а потом различает тихий шорох за дверью. Она чуть не теряет сознание от обжегшей кожу жути, вздрагивает и прижимается к твердой стене.
— Это крыса, — еле слышно говорит Наташа. — Просто крыса. Знаешь, я люблю крыс, они милые зверьки. А главное — маленькие.
— Она сюда не залезет?
— Может. В щель под дверью.
— А когда мы пойдем отсюда? — с надеждой спросила Люба, на всякий случай поджимая ноги.
— Не раньше, чем Обезьяна вернется, ведь у нее ключи. А ты уже хочешь домой?
— Мне тут не нравится.
— А почему? — Наташа лезет куда-то рукой, потом вспыхивает спичка. Она горит так ярко, что Люба закрывает глаза, боясь ослепнуть. — Посмотри на меня.
Сквозь сожмуренные веки Люба видит лицо Наташи, немного опухшее от слез, серые глаза ее влажны и широко раскрыты, коса змеей огибает тонкую бледную шею. Только сейчас Люба замечает, что на Наташе — школьная форма.
— Ты хочешь меня оставить здесь одну? — спрашивает Наташа. — Тебе ни капельки меня не жалко? — она подносит догорающую спичку ближе к своему лицу, так что от носа отползает тень. — Скажи, я — уродина?
— Нет, ты красивая.
— Правда? Тебе нравится?
— А ты что, сама не знаешь?
— Погоди, — Наташа взмахом руки гасит добравшийся уже до пальцев огонь и зажигает новую спичку. — Ты присмотрись получше. Я же чучело. Разве меня можно любить?
— Ты просто психованная, — пожимает плечами Люба. — То боишься невесть кого, то воображаешь, что уродина. Никакая ты не уродина.
— У тебя есть сестра?
— Ну есть.
— Вот ты могла бы меня любить, как свою сестру?
— Могла бы, почему нет.
— Честно? — изумляется Наташа, вытирая свободной рукой глаза и снова гасит спичку. — А можешь попробовать?
— Что попробовать?
— Ну, любить. Меня.
— Как?
— Ну просто. Любить. Как еще любят? Ты же должна знать, — капризно добавляет она. — Как сестру свою любить, небось знаешь.
Люба вздыхает.
— Ну хорошо. Если тебе так хочется, пожалуйста. А мы обязательно должны для этого сидеть здесь, в темноте?
— Я же тебе объяснила, почему мы здесь сидим. Я чувствую — они близко. И никто не сможет мне помочь, если они придут, ты понимаешь? И чтобы мне не было так одиноко, так плохо, так страшно, для этого я позвала тебя, — слова ее сминаются в новом приступе плача.
— Да хватит тебе реветь, — Люба отыскивает в темноте Наташины плечи и притягивает ее к себе.
Наташа утыкается лицом в Любину ключицу и, всхлипывая, что-то несвязно бормочет, а Люба прижимается шеей к ее мягким волосам. Любе не по себе, но обязанность успокаивать Наташу в вечной темноте немого приглушает страх. Наташа дрожит от плача, обняв Любу, как любимую игрушку, и даже упершись в нее твердыми коленями. «Двинутая», — тайно решает Люба, — «они с Обезьяной обе двинутые». Наташа постепенно затихает, все еще вздрагивая и на что-то тихо жалуясь в тело Любы, которая терпеливо согревает ее своим теплом, положив щеку в Наташины волосы. Глаза Любы раскрыты в темноте, откликающейся звуками на стук ее сердца: непрерывно, как птичий щебет, идет по трубам вода, то там, то здесь, всплескивает во мраке бегущая в неведомое крыса, что-то гудит, приглушенно, как вечно летящий вдалеке самолет, закрытый облаками, Люба думает о том, как странно они сейчас с Наташей живут, две девочки в школьных платьях, сидящие под землей на бетонном полу, как немые мягкие бабочки, забравшиеся под паркет, чтобы пережить зиму, и ей представилось, что солнце там, снаружи, уже провалилось в небо тонущим блюдцем из сверкающей золотом фольги, тускнея и тускнея, ушло в небытие, проступили звезды, которые всегда населяли волшебный мир вокруг, люди исчезли с улиц, и город превратился в усыпанный камнями ночной некрополь.
Наташа ненадолго засыпает, посапывая забитым после рева носом. Когда Наташа просыпается, они начинают зажигать спички, всматриваются друг другу в лица, целуются в переливающемся свете, и в темноте тоже, они целуются, не вспоминая своих прежних дней, потому что там, наверху, уже ничего для них нет.
Обезьяна возвращается через множество лет, но это уже не та Обезьяна, что была прежде: она повзрослела и лицо ее кажется даже красивым в темноте, сглаживающей оттенки кожи, это лицо маленькой пророчицы, зрящее сквозь стены подвалов прямо в бездну мрака, где не будет уже пола, а уйдет из-под ног к глубине земли погребенная забвением лестница в самое страшное. Обезьяна приводит с собой еще одну девочку, которая держит на руках кошку, на пальце девочки сверкает кольцо, черты лица ее так ровны, будто выточены ясным эскизом на светлом камне, войдя, девочка садится прямо на пол, придерживая кошку правой рукой, а левую протягивает навстречу Любе.
— Ирина, — говорит она.
— Люба, — Люба пожимает ее сухую, песочную ладонь.
— Кот или кошка? — спрашивает Наташа, поднимаясь на колени.
— Кошка, — брезгливо отвечает Обезьяна и чешет выставленную вперед ногу. Ирина невидяще смотрит в пол и гладит кошку по голове, щекоча ей пальцем под ухом.
Наташа подползает поближе и всматривается в морду животного, пока Обезьяна держит над ней горящую зажигалку.
— На колокол, — произносит наконец Наташа.
Ирина хватает кошку под передние лапы и встает, Обезьяна распахивает скрежетнувшую по полу дверь, Наташа поднимается с колен, отряхивает платье от пыли и все они устремляются во мрак. Схватив свою школьную сумку, Люба бросается за ними. Девочки движутся куда-то вслепую, не зажигая больше спичек, и Люба крепко держит Наташу за руку, чтобы не наткнуться на стену. Неожиданно Наташа останавливается, отчего Люба налетает на ее плечо, вспыхнувшая сбоку искра света распускается прямо на глазах волшебным цветком, освещая просторную комнату, вдоль стен которой лежат рулоны неизвестного строительного материала. Свет исходит из большой консервной банки, где пылает огонь, ясная и невесомая его природа может объясняться прозрачностью питающего топлива, наверное, это холодный кометный бензин. Ирина с Обезьяной подходят к тому месту, где с низкого потолка свисает обрывок ремня. Банка с огнем стоит на ящике, и пол у комнаты совершенно темен в тени, Люба проводит по нему подошвой туфельки и убеждается, что это — самый настоящий асфальт.
Наташа вытаскивает из обернутых продранной изоляционной тканью рулонов пластмассовую бутыль. Люба видит, что кошка висит на ремне, связывающем ее задние ноги, свесившийся набок хвост качается на весу, передними лапами она ищет себе в воздухе опору и жалобно мяукает. Наташа подходит и льет на кошку какую-то воду, отчего та извивается, ожесточенно шипит, и старается оцарапать Наташу лапой. Шерсть кошки слипается от жидкости, стекающей на пол, Наташа отступает назад, и тут Обезьяна с оскаленной ухмылкой бросает в кошку зажженную спичку. Все кошачье тело моментально вспыхивает огнем, как свернутая бумага, и душераздирающий крик жертвы больно стегает Любу по голове, стискивает сердце, так что ей трудно становится дышать. Огонь самозабвенно рвется вверх по дергающейся кошке, которая кажется в дрожащей оболочке пламени темной до негативности потустороннего бытия, кошка ноет тягуче, гадко, все медленнее и бесформенней изворачиваясь на весу, похожая на вырожденную птицу, в ее противном, непрерывающемся стоне слышна мука, которую невозможно терпеть, Люба закрывает уши руками, а они — нет, они продолжают смотреть и слушать, Обезьяна даже приоткрыла радостным оскалом рот, как третье ухо, они стоят так близко, что капельки пота выступают на лицах, вот-вот волосы загорятся, а Любе становится совсем плохо от запаха горелой шерсти, она слабеет, опускается на колени и судорожно борется с приступами тошноты, а кошка все ноет, будто пластинка, проигрываемая на неправильной скорости, поворачивается по оси, отмахиваясь горящими лапами от объявшего ее роя беспощадных огненных ос, это смерть, смерть схватила ее, и теперь уже не отпустит, никогда уже не отпустит, что-то темное капает из кошки на пол, а потом там, на ремне, глухо, влажно лопается и начинает похрустывать. Плач кошки берет на ноту выше, она ритмично дергается, и из нее вываливается смрадная кишечная тряпка.