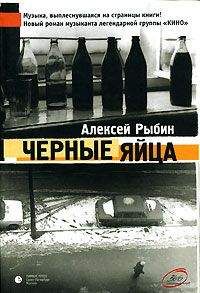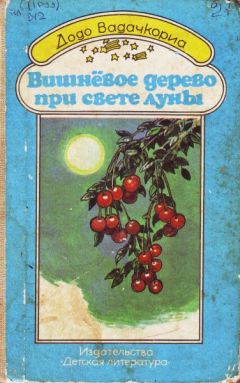Алексей Рыбин - Черные яйца
– И что? – насторожился Бирман.
– Посмотрите – ваши, чи ни? Говорят – ваши. Тильки я их прежде тут не бачив...
– Кто еще там? – вскинулся Евграфов.
– Сейчас я гляну, – неожиданно для себя перейдя на мову, ответил Толик Бирман.
Он поднялся со стула, но было поздно. От прохода, прорезанного в зеленой стене живой изгороди, цепляясь друг за друга неверными руками, зигзагами пробирались к столу Марк и Леков. В том, что они оба пьяны до последнего предела, мог сомневаться только слепой.
«Этого еще не хватало, – подумал Бирман. – Марк, сволочь. Выходной устроил себе. И парня мне споил. Держался ведь все гастроли. Ох, чуял я недоброе...»
– Вот этот, что ли, твой революционер? – захохотав во все горло крикнул Евграфов. – Ну, хорош, хорош... И что он нам споет?
– Я спою, – промычал поравнявшийся с Евграфовым Леков. – Я вам такое спою... Любимую мою спою...
– Он споет, – подтвердил Марк. – Мы вместе сегодня работаем... Для вас!
Внимание всего застолья сконцентрировалось на странной парочке. Марка знали в лицо большинство из присутствующих, знали и шуточки его, давно работал Марк на сценах необъятной страны, по телевизору показывался частенько – в «Голубом огоньке», на концертах, приуроченных к Дню милиции или Восьмому марта, – в общем, солидным уже считался человеком одесский юморист Марк. А вот второй – черт его знает, что за тип? Но – с гитарой. Петь, должно быть, будет.
– Сейчас перед вами... – набрав в грудь воздуху сказал Марк, взгромоздясь на невысокую сцену, построенную в конце зала специально ради выступления бригады Бирмана, – перед вами, дорогие вы мои... Товарищи! – рявкнул он. – Сейчас... Короче говоря, выступит мой друг. Удивительный артист из Ленинграда...
Леков, пытающийся найти лесенку, ведущую на сцену, мыкался вокруг, как слепой котенок.
– Дай мне руку, друг! – важно сказал заметивший неудачные попытки Лекова Марк. – Дай руку, товарищ!
Сидящие за столом начали посмеиваться. Чего только этот Марк не придумает? Это, видно, какая-то новая реприза. По крайней мере, ни в «Огоньке», ни в День милиции Марк этого не показывал.
– Песня про революцию, – проникновенно, чуть слышно сказал одолевший наконец приступочек сцены Леков.
Он нервно дернул подбородком, закатил глаза. Сидящие за столом притихли. Может, это и не юмор вовсе? Про революцию... Ну, пусть будет про революцию.
Вот пуля просвистела, в грудь попала мне,
Но спасуся я на лихом коне,
Шашкою меня комиссар достал,
Кровью исходя, на коня я пал.
Эй, да конь мой вороной!
Эй, да обрез стальной!
Эй, да степной бурьян!
Эй, да батька атаман!
Без одной ноги я пришел с войны,
Привязал коня, лег я у жены.
Через полчаса комиссар пришел,
Отобрал коня и жену увел.
Эй, да конь мой вороной!
Эй, да обрез стальной!
Эй, да степной бурьян!
Эй, да батька атаман!
Спаса со стены под рубаху снял,
Расстегнул штаны и обрез достал.
При советах жить – продавать свой крест.
Много нас таких уходило в лес.
Эй!..[12]
Бирман слышал эту песню впервые.
«В первый и в последний раз, – подумал он печально. – Песня-то хорошая... Только, видно, на этом моя карьера закончена...»
Он покосился на Евграфова.
Лицо общепитовского бога раскраснелось, не капли и не ручьи – ниагары пота катились по жирному лбу.
Евграфов в какой-то момент успел скинуть с широких плеч пиджак и теперь истово бил ладонями в такт лековскому «Эй-эй-эй!».
– Э-е-ей! – заорал вдруг Евграфов, когда молодой артист закончил песню. – Давай-давай-давай! Да конь мой ва-ар-раной! Эй-ей-ей!!! Расстегнул штаны!
– Безобразие, – прошипел сидящий слева Иванов. – Анатолий! Что такое тут у нас происходит?
– Ай, что ты лезешь?! – заорал Евграфов. Он вскочил со стула и пустился вприсядку. Леков, видя в зале такой отклик, начал песню по второму разу. Неожиданно какая-то пышная дама в кримпленовом пиджаке и тяжелой, не курортного фасона юбке плавно поднялась со своего места и пошла лебедем вокруг тяжело подпрыгивающего Евграфова.
– Что ты лезешь?! – орал Евграфов. – Пусть парень поет! Ай-ай-ай! – Неожиданно он перешел с присядки на лезгинку. – Вай-вай-вай! Да обрез стальной! Эх-ма! Не хуже Галича твоего, жида пархатого! Ай молодца, ай молодца!
– Что ты понимаешь, дурья башка, – тихо сказал Иванов и уткнулся длинным носом в тарелку с варениками.
«Кажется, обошлось, – спрятав под стол трясущиеся руки, подумал Бирман. – Но этим двоим, этим алкашам беспредельным я еще устрою. Я им покажу кузькину мать. Они у меня попляшут».
Глава девятая
ГИТЛЕРКАПУТ
Итак, я вижу, что приписал себе обладание некоторыми предметами, которые, насколько я понимаю, уже не являются частью моей собственности.
С. БеккетРайон под названием «Озерки» славился тем, что, попав туда, можно было провести массу времени в более или менее надежной изоляции от родственников, друзей, добро– и недоброжелателей, приятелей и знакомых, а также от товарищей по работе, начальников, подчиненных (если таковые были), вообще от всех и всего, что тем или иным образом постоянно проявляло себя в городе.
Озерки – новостройки, дома-«корабли», рядом парк, больше похожий на лес, а чуть дальше лес, сначала похожий на парк, а потом просто лес как таковой.
Дома-«корабли» построены недавно и, что самое замечательное в этих домах, еще, выражаясь языком служащих ЖЭКов, «не телефонизированы». То есть, телефонов в квартирах счастливых жителей Озерков нет. Ехать же, случись нужда найти кого-то схоронившегося в Озерках, туда довольно сложно – на метро до конечной, потом в битком набитом автобусе номер сто двадцать три остановок семь—восемь—десять – расстояния между «кораблями» довольно внушительны, каждый дом – остановка автобуса.
Дома похожи один на другой, как спичечные коробки с одинаковыми этикетками, автобус едет быстро, народ внутри него толкается, пахнет потом и пивом, все это отвлекает внимание, и разглядеть номер нужного дома удается не всегда. Водитель же, как правило, объявляет только одну остановку в самом начале маршрута: «Бар «Засада», – говорит водитель и после этого замолкает надолго. Разве что прорвет его: «Повеселей на выходе!» – рявкнет нервно. И то, работа – не сахар. Пассажиры неловки и нерасторопны, того и гляди, сорвут график – зевают, забывают выйти на нужной остановке, толкаются, прут через весь салон, матерятся, пихают друг друга локтями, а сделав первый шаг на ступенечку, за секунду до того, как дверь автобуса должна закрыться, оборачиваются и начинают высказывать оставшимся в автобусе пассажирам все, что о них думают, все, что всплыло в их измочаленном рабочим днем сознании за тот нелегкий период, пока они пробирались сквозь недружелюбную толпу к заветным дверям.
«Бар «Засада», – объявляет водитель остановку и думает, что какие-то негодяи, какие-то мерзавцы сидят ведь сейчас в этом самом баре, пьют, подлецы, холодное пиво, жрут, гады, скумбрию холодного копчения и думать не думают о том, что кто-то вынужден трястись в вонючем автобусе, слушать ругань пассажиров, глядеть сквозь мутное, исцарапанное стекло на разбитую, в темных лужах, дорогу – день за днем, всю жизнь, тормозить возле одинаковых грязно-бело-зеленых домов, открывать-закрывать двери и гнать машину дальше – по кругу, и стараться не вылететь из графика, день за днем, всю жизнь.
«Засаду» проехали, и водитель, по обыкновению, замолчал. Он и «Засаду»-то объявлял по собственной инициативе – нравился ему этот бар, бывал он в нем с хорошими товарищами и верными подругами. И когда в конце смены, усталый и традиционно озлобленный, проезжал он мимо «Засады», то всегда сообщал об этом потным и не менее злобным пассажирам. Не для того, чтобы они сориентировались, а хотелось ему вспомнить те ощущения, которые испытывал он в баре – с холодным пивом и скумбрией холодного копчения. Произнесешь «Бар «Засада» – и хоть на микросекунду всплывут в сознании эти неповторимые ощущения. Правда, потом еще хуже – возвращение к реальности, к убогой дороге и кретинам-пассажирам, но отказать себе в маленьком удовольствии просто невозможно.
Когда автобус выехал на улицу Композиторов, водитель заметил, что в салоне творится что-то неладное. Слишком громкие крики неслись оттуда, причем, крики какие-то непривычные – и по тембру, и по набору звуков, и по реакции пассажиров. Кричали несколько человек явно из одной компании: кто-то по-английски несколько слов произносил – громко, очевидно рассчитывая на реакцию аудитории, кто-то по-французски отвечал, водитель даже явственно расслышал китайскую речь и редкий для большого города диалект почти вымерших уже вепсов. Пассажиры, не входящие в нагло орущую интернациональную компанию, молчали.
За долгие годы работы водителем автобуса, то есть как ни крути, работы с людьми, водитель элементарно определял общее настроение толпы, сгрудившейся в салоне машины. На этот раз настроение ее можно было охарактеризовать одним словом – испуг. Водитель не ошибался никогда, недаром философский факультет универа закончил в свое время.